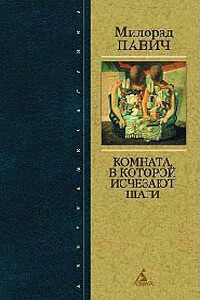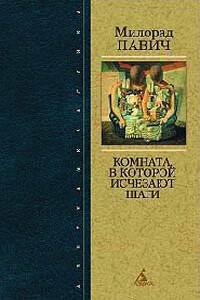Невидимая сторона Луны | страница 6
Почему это произошло и кому предназначались драгоценности, неизвестно. Известно лишь то, что, когда д-р Михаилович задумал подарить серьги, он увидел на платье своей избранницы третий бриллиант – тот самый, женский, – украшавший булавку.
Говорят, он купил камень у владелицы и еще глубже погрузился в бездну, а в день своей смерти (вскоре наступившей) был найден за столом. Возле его головы на столе лежали серьги с двумя мужскими бриллиантами, а женский сверкал в головке булавки, воткнутой в шейный платок.
Как видно, прадед был не из тех волков, которым сохраняли жизнь.
Нужно наконец объяснить, откуда у меня взялись прадедовы часы. Их унаследовала от своего прадеда Мария Дожа, моя жена. Два ее высоких, чуть сутулых брата приходят к нам по пятницам пить кофе. Они носят толстые свитера, которые вязали, набирая петли на пальцы, а не на спицы, бреют не только подбородок, но и шею до самой груди, и я не очень уютно чувствую себя в их обществе. Когда они здесь, молоко прокисает, если я на него дыхну. Ничего с этим не поделаешь. От моей семьи они отлучили меня давно, и по пятницам я смотрю на красивые и сильные зубы своей жены, которые клацают, когда она зевает. Впрочем, меня это мало тревожит. По крайней мере, пока я чувствую себя в безопасности. В соседней комнате спят трое наших детей. Им ведь нужно на ком-то тренироваться для будущей жизни.
Пароль
Один из тех людей, что дольше других живет в моих снах, – русский. На лице у него шрам, и вот уже три с половиной десятка лет мне снится, как он входит в наш двор в шлеме советского танкиста на голове и катит за собой печку на колесах. У печки труба с остроконечной крышкой, она дымит, как пароход. Повсюду на ней висят сковородки и кастрюли, между колес приторочены вязанка дров и канистра с соляркой, в выдвижных ящиках стоят банки с крупой и приправами, а также миска с тестом. Русский курит самокрутку, но почему-то вставляет ее в нос, а не в рот, всегда в левую ноздрю. Он устраивается посреди двора, раздувает в печке огонь, наливает на сковороду масло и печет оладьи. Маслом пахнет на расстоянии свиста, во сне я думаю, что он разбудит кого-нибудь в комнате, где я сплю. Солдат печет оладьи для маршала Толбухина и поет.
Песня, которую он поет, сложена на Дону три века назад – вряд ли раньше – и разделила судьбу сотен других русских народных песен. Ее пели на сельских праздниках за стаканом пива, на свадьбах, когда носят на подносе ленту-косоплетку – «девичью красу», играли на балалайке и уносили с собой в конные походы, ибо кто умеет достать до сердца шашкой, сумеет и песней. Пели ее казачьи хоры, сопровождая светлый мужской голос, взлетающий высоко в небо, способный тянуть один слог, пока горит свеча, дрожать на одном слове. Во время революции ее пели и красные, и белые, а позже вместе с другими песнями с веселой мелодией и печальными словами пронесли ее русские солдаты через Вторую мировую войну. Следует отметить, что она не из числа известных песен, советские радиостанции ее не передавали, и добралась она на Дунай на русских танках под звуки мандолин из лошадиных черепов, а может, ее принесли под Белград в сорок четвертом из Крыма красноармейские женские батальоны с ангельскими голосами и крепкими ногами, что изнашивали по восемь пар сапог за год марша. Ее пели и югославские скоевцы