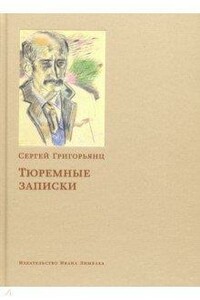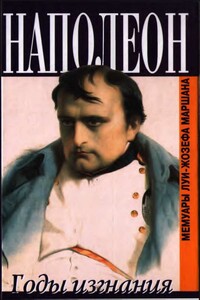Микола Лысенко | страница 12
Вижу бабушку Ольгу Еремеевну, мать композитора. Мне она помнится вся седая, дородная, важная и… очень добрая.
Гимназистик первого или второго класса, я бывал у нее на Караваевской (теперь улица Л. Толстого), где она после смерти моего деда жила у Старицких.
Латынь в отличие от пушкинских дней («Латынь из моды вышла ныне…») снова вошла в моду в классических гимназиях. Учитель латинского языка попался нам злющий, и я, бывало, являлся к бабушке «умытый слезой».
— Что, снова латынь? Ну, садись, садись, гостем будешь.
Голос у бабушки сердитый, а глаза добрые, смеющиеся.
Поит меня душистым, настоенным на травах чаем, угощает «секретным» ореховым вареньем.
— Очень оно полезное, Остап. Такое варенье даже Цезарю твоему не снилось.
Моя бабушка была хорошей пианисткой. Когда одна, а иногда в четыре руки с отцом она охотно играла свои любимые сонаты Генделя, вариации на когда-то популярную оперу «Белая дама», произведения Фильда. Пленяли нас не только музыка и мастерство исполнения (бабушка и в старости играла превосходно). Исчезали морщины, молодели глаза, и на миг она превращалась в институтку Оленьку, примерную воспитанницу Смольного института.
— Ух, уж мне эти институтки! — много лет спустя сердито говорил дядько Михайло. — Понимаешь, Остап, нашла коса на камень. Дед твой казацким происхождением гордится, песню украинскую любит, а бабушка в другую сторону тянет… Так над бедным Миколой и столкнулись два противоположных веяния: с одной стороны — французский язык, манеры и аристократическая чопорность матери и гувернантки, с другой — Вовгура-Лис, украинская речь, песни улицы, привольные игры со сверстниками, детьми крепостных.
Бабушка твоя долго, бывало, противилась и спорила и служанок наказывала. Попадало на орехи и Миколе и мне, чтоб «не смели шляться с дворовыми детьми».
Зато дед твой, человек мягкий, либеральный, держал постоянно нашу сторону, правда с одним условием — всюду нас должен был сопровождать дядька Миколы, Созонт. Ему Виталий Романович доверял как самому себе.
Созонт… С ним мы еще встретимся на страницах этой книги.
А пока возвратимся в Гриньки и Жовнин 50-х годов прошлого столетия.
Дом в Гриньках, точнее хата Лысенок, стала тесной для разросшегося семейства. И дед мой затеял переезд в Жовнин.
Для дома и усадьбы он задолго облюбовал живописное место на горе, по которой спускался к леваде фруктовый сад. Левада, покрытая яворами, орешником, тянулась почти до Сулы. Вербы купали свои зеленые косы в прозрачных, как девичья слеза, водах. С горки виднелись заднепровские дали с синеющими холмами, безмолвными стражами Сулы.