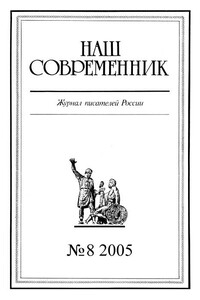Наш Современник, 2002 № 03 | страница 47
А. Яковлев навешивает ярлыки, не приводя ни одного примера, ни одной цитаты, которые бы оправдывали употребление этих ярлыков. И это не случайно. Раньше целью его было — не гнушаясь фальсификациями, подвести «статейку» для идеологической (и не только) расправы. Теперь же — оправдать свое двурушничество, представить себя эдаким Нострадамусом, который еще тогда, тридцать лет назад, предвидел опасность «русского фашизма», нависшего ныне над Россией. Это при нынешней-то «демократической» «власти тьмы», залившей собою всю страну!
А. Яковлев выдает себя за жертву «шовинизма» и «национализма», получивших поддержку, по его словам, в республиках страны, среди их интеллигенции. И если уж официальные интернационалисты не приняли этого обвинения в шовинизме, то ясно, до какой степени русофобия будущего «архитектора перестройки» перешла все допустимые границы. И сам ЦК партии вынужден был поставить на место зарвавшегося политического интригана. Рассказ в «Омуте памяти» о том, как на секретариате ЦК партии снимали его, Яковлева, с высокого партийного поста (вспомним, как когда-то по его «наводке» снимали на том же секретариате ЦК Анатолия Никонова с поста главного редактора «Молодой гвардии»), рассказ этот — свидетельство того, как в «застойные брежневские годы» были еще препоны на пути этого оборотня, исчезнувшие с приходом к власти Андропова, вернувшего Яковлева из Канады в Москву.
Виталий Черкасов
ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ
Народные мемуары
Ярославский вокзал окал, как всегда. Круглый окающий волжский говор этот прибойной волной перекатывался под сводами громадного зала. Временами за моей спиной вдруг вырывался старушечий или бабий голос, до того близкий, похожий, что я вздрагивал, — не мать ли?.. И искал ее в толпе, зная, что никогда ее уже не найду.
Был воскресный день. Из Москвы с мешками, сумками, узлами катила на Ярославль, Кострому, Кинешму, Череповец вся приволжская Русь, всегда не очень сытая, а потому таившая в своей поклаже продукты, которые в своем продмаге не купит она даже по большим праздникам.
В купе рядом со мною оказались две старушки в теплых платках, крест-накрест перехваченных у подбородка, да старичок в полушубке до того засаленном, как будто ползал он в нем всю последнюю свою войну.
Старушки, умаявшись от Москвы, сразу же принялись печально прихлебывать чай, закусывая вагонным печеньем, а старичок, видно по носу, уже где-то хвативший, проворно достал початую бутылку, выпил, крякнул и мгновенно подобрел. Радостным детским голосом он не предложил, а воскликнул: «Не выпьешь, мил-человек?!»