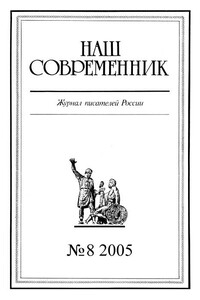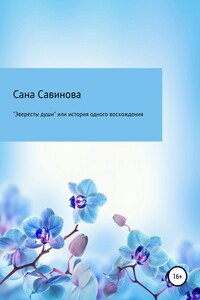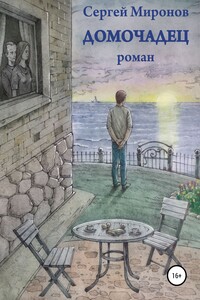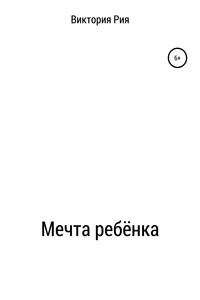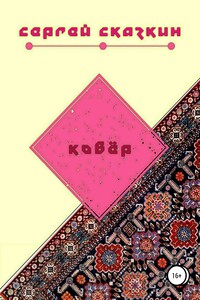Наш Современник, 2002 № 03 | страница 26
В 60-е годы Солженицын рекрутирует в свою шарашку всех, кто по его расчету были полезны, выгодны ему в его политических махинациях. Выжимал он все моральные дивиденды из своего «Первого круга ада». В отличие от Достоевского, которого каторга христиански преобразила, Солженицына заключение невероятно озлобило, хотя и это было «шарашкой» с интеллигентской болтовней ее обитателей. Помню первое впечатление от его фотографии на обложке «Роман-газеты», где в начале 1963 года был опубликован «Один день Ивана Денисовича»: что-то утрированно замогильное, замшелое, стоящее непреодолимым валуном на пути к его герою. Потом новая знаменитость замелькала в печати в ватнике с зэковским номером «Щ-282» — как бы выставленным напоказ всему человечеству. (Кстати, в «Матренином дворе» праведной хозяйке дома досталось от постояльца Солженицына за то, что она посмела выйти во двор в этом ватнике, не проявив благоговения к этой исторической реликвии.) Время все проясняет. Сейчас этот «Щ-282» воспринимается как зэковский номер какого-нибудь Щаранского, в свое время сидевшего в советском лагере за шпионаж, выпущенного на волю под напором сионистских сил, а ныне наезжающего в «демократическую Россию» в качестве израильского министра.
Любопытно, как во время недавнего приезда Солженицына в школу на Владимирщине, где он когда-то преподавал математику, одна из учительниц отказалась прийти на встречу с ним, назвав его шпионом. Сказано в «простоте сердца», но «со смыслом». Любимый герой Солженицына дипломат Володин в романе «В круге первом» звонит по телефону-автомату в американское посольство и открывает государственную тайну России, связанную с атомной бомбой. За подобный шпионаж в пользу чужой страны были казнены в Америке супруги Розенберги. Но в романе шпион возносится как герой, автора душит злоба от одной мысли, что наша страна может иметь атомную бомбу, может защититься от боготворимой им Америки. Солженицын вправе считать себя открывателем у нас «этики» предательства, когда шпион уже не считается таковым и всегда может быть оправдан судом, как это уже стало заурядным явлением нынешней практики при «демократах».
Как-то друг Солженицына Борис Можаев попросил меня написать внутреннюю рецензию на вторую книгу его романа под названием «Мужики и бабы» для журнала «Наш современник». Зачем ему понадобился мой отзыв, который ни в коем случае не мог сдвинуть с места застрявший «по идеологическим причинам» в редакции этот роман, — мне было непонятно. Но я написал, и мы встретились в Литературном институте, где я работал. Барственно уселся он в кресло около стола (на кафедре творчества), испытующе взглянул на меня. А я почему-то вспомнил одно место из его романа (из первой книги, я тогда ее прочитал вместе с рукописью второй книги). Там во время сенокоса мужик идет с тазом, чтобы вымыть его, навстречу — другой мужик. Спрашивает: куда идешь? Мыть таз. Давай я его помою — берет и мочится в него. Что-то вроде этого. Я и напомнил об этой сцене важно сидевшему в кресле писателю.