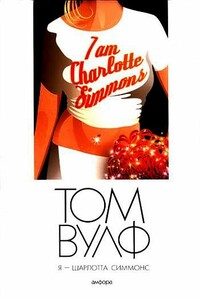Иголка любви | страница 35
— Отстань, — заныла Маша, и они стали возиться и немного подрались. Не больно, а так.
— Ну Маша, ты обещала, — сказал Роман и стал гладить ее по щеке. — Ну Маша же!
— Он приходит и говорит, — сказала Маша, — кто пойдет с ним, тому он что-то покажет.
— Что покажет?
— Никто не знает, — заволновалась Маша. — Он сказал, только самым красивым девочкам покажет.
— Что покажет? — почти крикнул Роман. — Зачем?!
— Он сказал, — безжалостно продолжала Маша, — что это самое лучшее в мире!
— Маша, — сказал Роман. — Не ходи с ним.
— Да? — сказала Маша и зло сузила глаза. — Да, все красивые, а я нет?
— Ты? — сказал Роман. — Ты красивая! Маша, не ходи с ним.
— Да? — сказала Маша. — Да? Ромочка! Все пойдут, а я нет?
— А я? — сказал Роман. — И я пойду.
— Он не берет мальчишек, — буркнула Маша. — Он вообще сказал, чтоб никому не говорить.
— Попроси его, — сказал Роман. — Пожалуйста, меня одного. Я не скажу!
— Он послезавтра придет, — сказала Маша.
— Ты попросишь? — просил Роман тревожно. — Ты не забудешь?
— Попрошу, — буркнула Маша.
— И Марека! — выпалил Роман. — Марек же!
— Попрошу, — сказала Маша. Она любила Марека.
И они так сидели сто тысяч лет, намертво сплетенные тайной, и Романа распирала гордость и благодарность к Маше, щедро поделившейся с ним тайной. Но и без тайны он любил ее и смотрел на нее удивленно. Потому что получилось что-то совершенно необыкновенное. Вот сидит девочка, и все, что у нее есть, радует Романа так, будто все это у него самого и есть. И все это лучше всего на свете, и можно смотреть на нее, и радость так странно мучит его, что он хочет мучиться, потому что это и не мука, а радость. И, странно, они, все эти люди, так не умеют. Иначе бы они не рвали друг друга, а сидели бы точно так, как сейчас он с Машей, и радость бы раздирала им грудь.
— Маша, — сказал Роман. — Маша.
Он вдруг понял, что сейчас заплачет, и очень испугался. И чтоб она не видела его лица, он стал опять отворачиваться, но она тут же стала заглядывать, и тогда он уронил свое горящее лицо в ее ноги и не зарыдал, а задохнулся от ужаса и восторга. Он судорожно вцепился в эти ноги и не мог их выпустить. И он не плакал, хотя лицо его было мокрым, а глаза горели. И его вообще больше не было, и это было не страшно. И Маши не было. Был кто-то другой — и тот другой были они оба.
Маша пискнула и завозилась, и он сильнее сжал ее. Ему хотелось подтянуть ноги под самое горло и больше не быть — каким-то чудом раствориться в маленькой Маше, чтоб она не пищала и не отталкивала его, и не быть больше, всегда быть в ней, ею самой с ее лохматыми волосами, с ее милым личиком и белыми носочками.