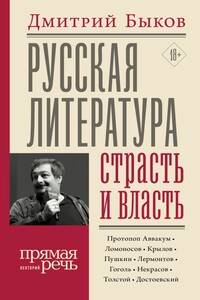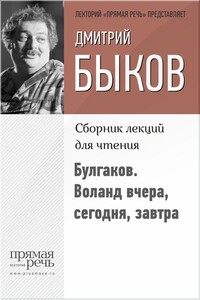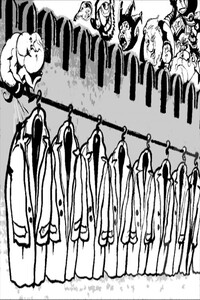Феномен Окуджавы | страница 16
Стихотворение это в 1962 году написано по совершенно понятным мотивам. Не просто потому, что Окуджава переехал в Ленинград к новой жене, не просто потому, что он часто бывал в Павловске, и ему легко было представить, как актеры играют прямо на траве. Про другое речь. Речь идет о том, как интеллигенция в надежде смотрит на представителя власти: вот-вот, сейчас он – да? – жандармы все мне приелись, – да? – «я сам вас поведу». Больше того, дальше там замечательный идет такой инновационный монолог:
Уже тогда это было абсолютно точным сигналом для всех, кто ждал от власти самосвержения, самореформирования. В 1962 году были такие наивные люди, которые думали: да ну, они ему не дают, они его связали по рукам и ногам… Нет. Нельзя. От Павла I нельзя ничего дождаться.
Мы и сейчас вспоминаем это стихотворение, я думаю, со сходными чувствами, особенно после 18 мая. И это особенно принципиально вот почему. Здесь есть опять-таки та удивительная фольклорная амбивалентность, которая и делает Окуджаву гением: удивительная смесь сострадания и презрения, легкого умиления и легкой же брезгливости. Здесь абсолютно четко сформулировано его отношение к любому идеализму, который он всегда считал все-таки уступкой слабости. Не обольщаться – главное, что мы должны, видимо, усвоить. И я думаю, что сейчас из всех песен Окуджавы пришло время чаще вспоминать «Надежду Чернову».
Меня эта песня всегда очень озадачивала. Поэтому о ней был первый мой вопрос при первом более или менее нормальном разговоре с Окуджавой, когда он позвал маньеристов к себе на дачу. Первый вопрос, который я задал, чудовищно робея и, разговорившись несколько только после водки, потому что вид живого Окуджавы, при всей простоте его облика и манер, всегда внушал ощущение, что рядом с тобой ударила молния – то, что Блок называл «молнией искусства». Я, страшно робея, спросил: а кто, собственно, такая Надежда Чернова? Мне всегда казалось, что это какой-то загадочный партийный функционер, о котором я, может быть, не знаю. Ну, помните, конечно…