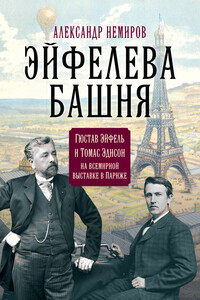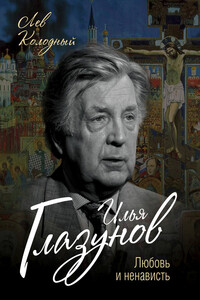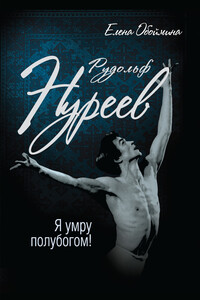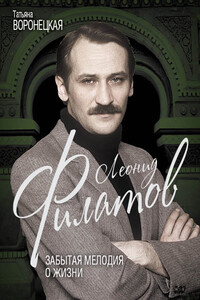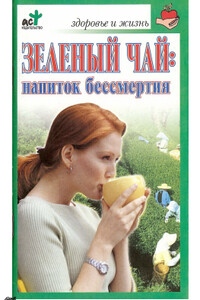Мстислав Ростропович. Любовь с виолончелью в руках | страница 27
Общаясь с композитором ежедневно, Ростропович наблюдал за прокофьевским творческим процессом. Запреты врачей не могли отвлечь его от музыки. Композитор возмущался: «Мне легче было бы писать, чем нести музыку в себе». По свидетельству Ростроповича, «за вычетом сна, все его мысли были только о музыке, и поэтому темы, которые он записывал на конфетных коробках, кусках бумаги и в своих записных книжках, могли появиться в любое время». Далее Прокофьев «давал темам “отлежаться”, все время обдумывая возможность их развития».
Дружба с Прокофьевым многое дала Ростроповичу как человеку и артисту. Леопольд умер, виолончельная школа Козолупова себя исчерпала. Прокофьев указал молодому музыканту новые ориентиры. Его дальнейшее развитие направилось в сторону настоящей глубокой музыки. Своей творческой стойкостью после страшного 1948 года Прокофьев доказал, что опасность формализма заключалась не в том, от чего предостерегали официальные идеологи, а как раз в том традиционализме, на который были ориентированы властями музыканты.
«…Я мечтал познакомиться с Прокофьевым, будучи студентом, не пропускал ни одного спектакля «Ромео и Джульетта» в Большом театре. И вдруг — 1948 год, постановление ЦК партии о формализме в музыке. В Большом зале консерватории был организован митинг по поводу этого постановления. И началось «коллективное прозрение»; выходили студенты, профессора и говорили: наконец-то нам открыли уши и глаза, наконец-то мы понимаем, что Шостакович и Прокофьев — это не композиторы, мы, дескать, просто находились в каком-то заблуждении, но теперь все поняли. В то время в «Правде» публиковались статьи по этому поводу. Одну я даже сейчас могу процитировать. Какой-то слесарь сказал: «Когда у человека нет даже следа музыкального таланта, появляются такие, как Шостакович и Прокофьев». И если бы я тогда встал и сказал на митинге то, что от меня хотели услышать, я, конечно, получил бы новую квартиру, очередное звание, заграничных гастролей имел бы сколько угодно. Но разве мог я поступить против своей совести? Нет, поэтому сейчас можно поднять любые издания тех лет, и убедиться, что я не сказал ни одного слова против своих учителей, против своих кумиров.
Зато тогда появилась статья музыковеда Келдышева в газете «Советское искусство», я цитирую (у меня очень хорошая память): «Духом безыдейности и наплевизма — запомните это слово — на запросы широких масс трудящихся проникнута деятельность талантливого аспиранта Московской консерватории Мстислава Ростроповича. Он отказался играть для солдат Советской армии в Австрии, и за его поведение ответствен не только он, но и вся консерватория в целом». На самом деле никто никогда меня в Австрию не приглашал играть для солдат. Но «духом безыдейности и наплевизма» (хорошее слово) на запросы широких масс трудящихся была проникнута вся моя деятельность. Бог шельму метит. А у меня совесть была чистая»