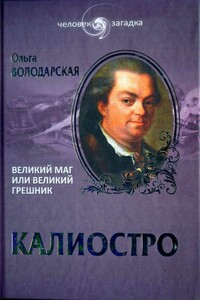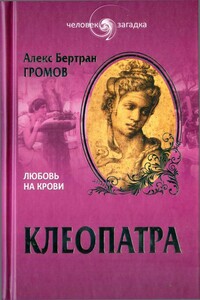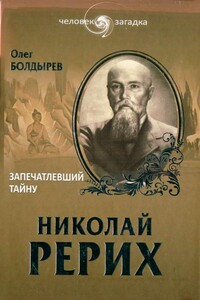Плевицкая. Между искусством и разведкой | страница 49
Плевицкий раздражался на ее рассуждения, и кратковременное супружество их едва не потерпело крах: спасло то, что приехала в Киев на гастроли труппа Манкевича и им удалось поступить туда.
Классического балета эта труппа не ставила, но зато Плевицкого взяли на должность балетмейстера — ставить танцевальные номера в водевильных спектаклях.
И оклад оказался даже больше, чем у Штейна.
В общем, как и предсказывала Надежда, "все обошлось".
В семье снова воцарился мир. Плевицкий радостно признал, что Надежда оказалась права. А ее совершенно умилило то, что он — муж, мужчина! — готов признать свою неправоту, и она все, совершенно все ему простила, хотя на самом деле и не сердилась вовсе на него.
У Манкевича Надежда уже не танцевала, а только пела. Плевицкий был вполне доволен этим: он считал, что для балета Надежде легкости не хватает и грации. Ну не давались ей пируэты. А в песне она была царицей, и Манкевич очень скоро поставил ее на сольные партии. Какое-то время Плевицкий надеялся, что Манкевич (сам — бывший оперный певец) оценит по-настоящему талант его жены, но со временем разочаровался и в нем: хозяин труппы сам выбирал репертуар для Надежды и предпочтение отдавал цыганским романсам. Конечно, их Надежда пела хорошо, потому что она вообще пела хорошо. Но цыганщина не была ее стихией.
Какая цыганка из нее — дородной, румяной?
Цыганка должна быть худой, желтой, словно бы снедаемой внутренним огнем… И петь с подвыванием.
Подвывать Надежда быстро научилась, но все-таки не было в ее подвываниях истинно цыганской порочной страсти.
И Плевицкий сердился на директора труппы, и мечтал найти для Надежды "достойного" антрепренера.
Сама же она получала удовольствие от любых выступлений: лишь бы петь, лишь бы на сцене.
Пусть цыганщина! А до того была ведь оперетта. Да и в балете танцевать приходилось. Но могла ведь вовсе в монастыре остаться. Или в деревне. Пела бы сейчас на хорах, облаченная в черное, или деревенские свадьбы были бы единственной отдушиной! А тут каждый день — новое. Города, зрители, подмостки. Та тяга, которую она ощущала еще в юности, в детстве, не ослабла с тех пор, как она вошла в мир театра, как познала его собственным опытом, собственной жизнью. Даже сильнее еще стало: не влечение уже, а любовь. И ей хотелось остаться здесь — любой ценой. Если директору труппы нужны цыганские романсы — она будет петь цыганские романсы! Лишь бы дали ей сцену и зрителей. Она слишком многое преодолела на пути к своей мечте, и теперь ей казалось грешным роптать на что-то: пусть даже на неподходящий репертуар. Она ведь поет! Чего же еще ей желать?! Театр ей был дороже спасения души. Она ведь в театр из монастыря сбежала. Так что на спасение души теперь уж, верно, рассчитывать не приходится!