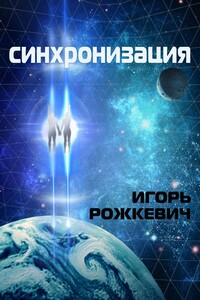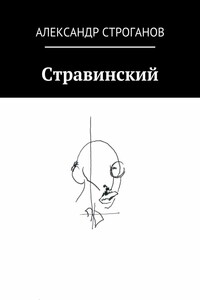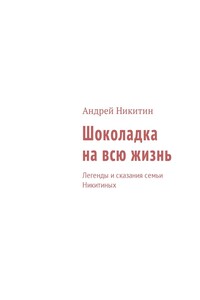Кавказские новеллы | страница 150
А в крошечной Осетии им было трудно разместиться: на каждый квадратный метр приходился один генерал, два полковника и несколько подполковников, а ниже званий у осетин-военачальников не бывало со времен нашествия гуннов в 4 веке христианской эры.
Кроме того, они привыкли командовать строевым порядком, а в самой Осетии осетинами не покомандуешь.
Здесь на страже будней всегда стояла другая армия – иерархическое осетинское застолье, где в чине маршала – сам тамада, по правую и левую руки – его заместители, не ниже, чем генерал-лейтенанты.
И был единственный бессменный Генералиссимус. Когда Никита Хрущев с шумом выносил его отовсюду: из Мавзолея, дворцов, парткомов и парков, – осетины заносили его бюсты обратно – в свои дворы. Да так, что «широкая грудь осетина», как писал поэт Мандельштам, которую тот носил в Кремле, теперь упиралась в начало стола, а дальше располагалось его войско коммунистов-фронтовиков, шедших с его именем в атаки.
Осетины не навязывали своих притязаний на единокровие при его жизни, в 30-х годах поддержали большой исход, как и вся страна, правда, недобровольно, но, по чёткой статистике, каждый десятый навечно остался в списках комитета государственной безопасности от своих же граждан под кодовым названием – “враг народа”.
Однако дремавшие в них гены старых, как евразийский мир, воинов вынуждали относительно мирно переживать политические изломы и считать павших убитыми в боях, неизбежностью во время походов великих полководцев – Атиллы, Македонского, а также кровно родственных Фридриха Барбароссы и того же Иосифа, сына Дзугаты, то есть Дзугашвили[9].
К короткому аланскому слову, которым они подтверждают ум и мужество – «ЛАГ», что означает «мужчина», они старались никогда не прибавлять «ГУ», дабы не напоминать лишний раз…
Так же спокойно приняли они отверженного вождя на его кровной родине, отведя ему почётное, почти святое место – этот народ разучился молиться в храмах, давно вернувшись к древним ритуалам, где к Богу шли молитвы тостами с последнего застолья перед боевым походом.
И ответ от Бога за устаревшую форму общения получали тоже через наполненный бокал. Этого я тоже не могла понять, потому что в раннехристианском святилище – Святой Роще Хетага, покрывшейся патиной язычества, старейшины воздвигли молельню для молитв-тостов, очень похожую на “бистро”.
Бывало так, что юноши, настоявшись с бокалами под властью велеречивого старшего – тамады, даже по разу пригубив за сказанное, после усердного моления садились за руль и уносились туда, куда пешим старейшинам было не поспеть за ними, и светил им в той дороге красный свет.