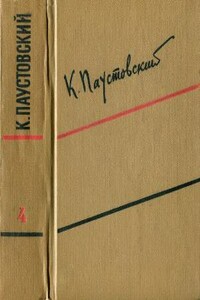Том 6. Пьесы, очерки, статьи | страница 61
Тучи расходятся. Огромное жаркое солнце горит над расцветающим лесом. Поют сотни птиц.
Страходер (хлопает себя по бокам, лапами) Ах, волк те заешь!
Порыв ветра. Черемуховые лепестки густо летят в избу. Сквозь них почти ничего не видно.
Кутыркин. Черемухой метет. Будто снегом. А запах какой! От него от одного жизнь воротится.
Нюрка. Панька-а-а!
Паня. Чего?
Нюрка. Я боюся-я-я!
Паня. Стой, где стоишь, дуреха! Сейчас пройдет.
Голос Никиты. Варюша! Ты пришла ай нет?
Варюша. Дедушка! (Бросается к Никите.)
Порыв ветра проходит. Лепестки опускаются на землю. Никита медленно садится на лавке, опирается на Варюшу, глубоко дышит.
Никита. Жизнь из меня вытекла. Может, одна какая капля осталась. А сейчас чую, будто окунули меня в целебную воду. И дыхание легкое, и сердце колотится ровно, и глаза глядят зорко. До чего хорошо!
Страходер. Государыню Весну благодари. Это она для тебя постаралась. Раньше времени снег согнала, пустила в рост цветы да травы.
Никита. Спасибо великое!
Девушка подходит к Никите, садится на пол у его ног, рядом с Варюшей.
Был я как этот лес. Дерева в нем всю зиму стояли мертвые, прихватило их стужей до самого сердца, а пришла ты, Весна, – распушились и пошли одеваться клейким листом. Так и я.
Варюша прижимается к девушке, смотрит на нее благодарными глазами. В лесу начинает куковать кукушка.
Послушаем, сколько она мне годов напророчит.
Все (считают до десяти). Один, два, три…
Никита. Этого мне маловато.
Нюрка. А я, дедушка, сколько хочешь тебе жизни прибавлю. Вот через это колечко. (Показывает колечко.)
Никита. Колечко, милая, ежели вникнуть, – одно баловство. Сердце у человека должно быть широкое, руки должны работу любить, глаза – лицезрение, а голова – мысли. Тогда и без колечка сто лет проживешь.
Нюрка. А я хочу поглядеть через то колечко на весь белый свет с его чудесами.
Паня. Мне тоже охота.
Варюша. И мне!
Никита. Белый свет, конечно, вещь серьезная. Только по мне лучше этого леса, и села, и нашей реки нету ничего на земле. Сколько по свету ни езди, а всегда на родное место воротишься. Бегом, брат, прибежишь. Посмотришь там на какие ни на есть чудеса, океаны, дерева, что в поднебесье уходят, скажем, слонов, да китов, да великие разные города, а все равно милее этого горицвета, что пробился в щелке на пороге, ничего не узнаешь. Своя земля – как мать. Ее позабыть нельзя, и любить ее надо не на жизнь, а на смерть.
Кутыркин. Это точно. Вполне согласен.
Страходер. Да… Белый свет! Он кому белый, а кому и черный. Вот один из моих дядьев, Потаи, – да ты его знаешь, Никита Егорыч, такой медведь, малость лысоватый – попал в цирк. И начал его возить тот цирк но всему белому свету, по Европам. Жизнь, рассказывал, прямо собачья. Никудышная жизнь! День в клетке сиди, а вечером перед народом выламывайся. Стой на передних лапах вниз головой на деревянном шару. А задними болтай. И бант еще тебе на шею привяжут. Так это еще милость. А то заставят на велосипеде круг цирка кататься. Спицы, рассказывал, всю шерсть из лап повыдерут. А народ хохочет. Прямо и срам и горе! И не обо что даже когти поточить. Ни одного дерева нету. А какие и есть на улице деревья, так вокруг них тоже железные клетки понаделаны. Потап терпел, терпел, да и убег. Воротился домой и, верите ли, заплакал. Сидит, ревмя ревет, всю шкуру слезами замочил, а лапой по своей земле все гладит, радуется. Землянику сгребает и – прямо в пасть!