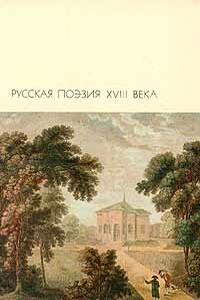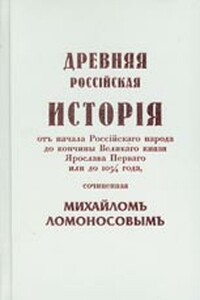Избранные произведения | страница 13
26 июля 1753 года при опыте с атмосферным электричеством во время грозы был убит молнией профессор Георг Вильгельм Рихман. Одновременно подобные же опасные опыты производил сам Ломоносов, который, узнав о происшедшем, поспешил в дом Рихмана. Он в тот же день написал И. И. Шувалову письмо со всей силой непосредственного переживания: «Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены, детей и дому столь были чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа». «Между тем умер г. Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет…». Рихман, – пишет далее Ломоносов, – «плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно, однако на шест с железом, которой должен стоять на пустом месте…», – т. е. указывает на возможность создания громоотвода, которого тогда еще не существовало. Ломоносов просит Шувалова оказать помощь семье погибшего и «миловать науки», ибо опасается, «чтобы сей случай не был протолкован противу приращения наук…» (с. 130–131). А в своем «Слове о явлениях воздушных от электрической силы происходящих» (26 ноября 1753 года) Ломоносов воскликнул: «Не устрашил ученых людей Плиний в горячем пепеле огнедышущаго Везувия погребенный, ниже отвратил пути их от шумящей внутренним огнем крутости. Смотрят по вся дни любопытные очи в глубокого и яд отрыгающую пропасть. И так, не думаю, чтобы внезапным поражением нашего Рихмана натуру испытающие умы устрашились и электрической силы в воздухе законы изведывать перестали».
Пушкин, живо интересовавшийся биографией Ломоносова и собиравший о нем сведения, оставил замечательною характеристику его личности: с Ломоносовым «шутить было накладно. Он был везде тот же – дома, где все его трепетали, во дворце, где он дирал за уши пажей, в Академии, которая, по словам Шлецера, не смела при нем пикнуть, со всем тем он был добродушен и деятельно сострадателен. Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана!».[20] Хотя Пушкин ссылается на слова Шлецера о том, что в Академии наук при Ломоносове не смели «пикнуть», но палки в колеса ему ставить ухитрялись, и он постоянно натыкался на различные бюрократические препоны. «За безделицею принужден я много раз в Канцелярию бегать и подьячим кланяться, чего ради я, право, весьма стыжусь, а особливо имея таких, как Вы, патронов», – пожаловался он 15 августа 1751 года И. И. Шувалову (с. 110). Но он сохранял чувство собственного достоинства перед своим влиятельным меценатом. И когда однажды И. И. Шувалов вознамерился, отчасти с добрым намерением, отчасти чтобы позабавиться, помирить его со сварливым и раздражительным Сумароковым, Ломоносов почувствовал себя оскорбленным и написал резкое письмо вельможе, в котором гневно заявил: «Не токмо у стола знатных господ, или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога, который мне дал смысл, пока разве не отымет» (с. 229). Ломоносов был обременен множеством дел и обуреваем множеством замыслов. «Хотя голова моя и много зачинает, да руки одне», – признается он в письме И. И. Шувалову (15 августа 1751 года – с. 110). Наряду с «испытанием натуры», физическими опытами и химической практикой, Ломоносов увлекается вопросами древней русской истории, вступает в споры о происхождении Руси, обращается к летописям, выпустив в 1758 году первый том «Древней российской истории». В 1748 году Ломоносов составил научно обоснованную «Российскую грамматику», а еще ранее, в 1747 году, напечатал «Риторику».