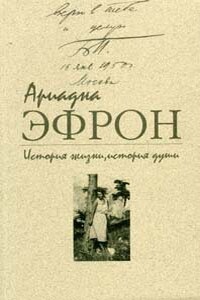Моя мать Марина Цветаева | страница 89
«От сего, что поэт есть творитель, — не наследует, что он лживец: ложь есть слово против разума и совести, но поэтическое вымышление бывает по разуму тáк, как вещь могла и долженствовала быть».)
Итак, тетрадь начиналась с «Сивиллы», сама же Сивилла, как и все цветаевские образы, шла издавна и издалека, далеко вперед, преображаясь и конкретизируясь в пути — от полудетского, вопрошающего: «О, для чего я выросла большая? Спасенья нет!», от «Слово странное — старуха! Смысл неясен, звук угрюм…» до кристаллизации темы прорицательницы, «выбывшей из живых», «с веком порвавшей родство» окаменевшего вместилища божественного, бессмертного дара и духа.
С основными своими темами Марина не расставалась всю свою творческую жизнь, и они, переходя из одной ипостаси в другую, как бы кустились, давая все новые ответвления от ее ствола и корней.
Так, по первоначальному плану, цикл «Сивилла», осуществившийся в трех стихотворениях, должен был состоять из девяти; предполагавшееся содержание пятого и шестого: «Сивилла, не помнящая (себя)» и «Сивилла, не помнящая (других)» естественно перелилось — из мифологической Греции в сказочную Россию — во вторую часть поэмы «Мóлодец», превратившись в зачарованное беспамятство Маруси, героини поэмы. (Работа над «Молодцем», продолжающим линию «русских» цветаевских поэм, была начата в Москве, накануне отъезда, а завершена в Горних Мокропсах, в течение двух, не перебитых ни одним стихотворением, последних месяцев 1922 года.)
Попутно тема Сивиллы родила — или вместила в себя — близлежащие: уходящей молодости, седых волос («значит, бог в мои двери — раз дом сгорел!», где бог — все тот же неизменный Феб, бог бессмертного вдохновения и призвания, сжигающий смертное свое обиталище — плоть «прорицательницы»). Отблеск Сивиллиного «костра под треножником» лег — все в одной и той же тетради — и на цикл «Деревья», и на многие иные стихотворения.
Что до самого Молодца, обряженного в кумачовую рубаху, действующего в окружении русской сказочной завораживающей жути, то не разночтение ли он и не инако ли толкование незримого, но главенствующего героя «Сивиллы», не спешившийся ли герой поэмы «На красном коне», отнимающий у любящей и любимой все дорогое, но бренное — вплоть до жизни! — во имя неумирающего, вечного? Даже концы обеих поэм, уносящие, возносящие героиню в синюю, полыхающую твердь поэзии, — родственны: