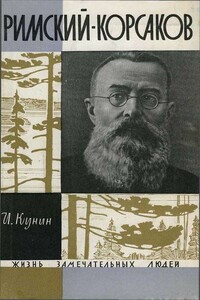Петр Ильич Чайковский | страница 63
Мелодию для этого поэтического гимна свободе Чайковский нашел случайно, проведя с Ларошем день в Кунцеве, под Москвой. В деревне Мазилово около Кунцева четырнадцатилетняя девочка, дочка крестьянки, напоившей их чаем, спела друзьям песню, поразившую их необычайной трагической интонацией начала, порывистым двойным взлетом мелодии.
Но народные мелодии не всюду естественно вплелись в музыкальную ткань оперы. Для нового, глубоко прочувствованного содержания не сразу находилась новая форма. А привычная художественная форма несла с собой и привычное содержание. Так, лирический тенор в опере первой половины XIX века — это не только голос определенного склада, но и устойчиво закрепленный образ обаятельного оперного любовника, всегда готового к излиянию нежных или горестных чувств, но лишь в малой мере наделенного энергией и волей. Его партия заключала обычно виртуозные обороты, призванные показать с наилучшей стороны голос певца и его мастерство, а потому используемые с необходимыми изменениями в самых различных операх. Существовали излюбленные оперные ситуации, равно как излюбленные типы персонажей, неизменно волновавшие и привлекавшие сердца слушателей. Сложившиеся еще в старой придворной опере, эти типы оперных героев были в большой степени унаследованы композиторами-романтиками, увлеченными изображением сильных чувств, потрясающих событий и трогательных развязок. Из оперы в оперу переходили благородно чувствующий, но бесхарактерный герой (тенор), невинная страдалица (сопрано), злая разлучница (меццо-сопрано) и мрачный или комический злодей (бас). Обычно добродетель торжествовала, хотя бы на краю могилы, порок посрамлялся, чтобы воскреснуть и снова быть посрамленным в другой опере. От таланта композитора зависело насытить эту схему чувством и мыслью, оживить условные образы новыми чертами. Глинка и Даргомыжский, умевшие вылепить такие вполне самобытные образы, как Сусанин или Мельник, не чуждались, однако, этой схемы при создании музыкальной характеристики Сабинина и Фарлафа (в операх Глинки) или Князя (в «Русалке»). Но в «Воеводе» противоречие между типом оперного любовника и образом удалого доброго молодца Бастрюкова оказалось слишком сильным. В образе Марьи Власьевны углубился, но не получил вполне самостоятельной жизни тип невинной страдалицы. Не стал достаточно выпуклым образ злодея Воеводы.