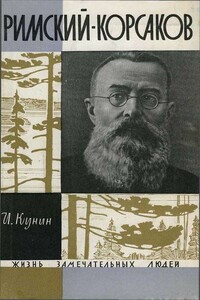Петр Ильич Чайковский | страница 60
«Луч света в темном царстве» — глубоко поэтически определил Катерину Добролюбов. Сродни Катерине и женские образы опер Чайковского и трагические образы Джульетты и Франчески, героинь его симфонических поэм.
Все, что рвалось наружу в его фортепьянных импровизациях, все смутное, безотчетное чувство жизни, весь ужас перед «духом солдатчины» и тупым бездушным насилием, все приглушенные им порывы к радости, к душевной чистоте, справедливости и правде словно нашли исход, получили смысл и значение, как солнцем осветились идеей.
Этой идеей был гуманизм, всею своею силой направленный против бездушного и бесчеловечного уклада окружающей жизни. В центре этого гуманистического мировоззрения стоит личность, впервые осознающая свое человеческое право на счастье, на свободу, на ничем не препятствуемое цветение. Это осознание тем острее, что оно возникает среди разгула враждебных сил. Это ранняя весна личности. Нежные ростки еще повсюду встречают ледяную кору, мороз еще властен застудить побеги, выбившиеся на свет. Радость жизни и страх смерти, как сестры, сопровождают юность на ее пути, идиллия неотступно граничит с трагедией.
«Чуть ли не с тех пор, как он посвятил себя музыке, его мечтой было написать оперу на сюжет его самой любимой русской драмы — «Грозы» Островского», — писал Модест Ильич.
Почти семь лет лелеял композитор эту мечту. Опера на сюжет трагедии Островского могла быть только народной, нельзя было и думать найти Катерине музыкальную характеристику, опираясь на привычные формулы оперных арий. Уже одно это непременно должно было толкнуть Чайковского на внимательное вслушивание в народные песни, оживить никогда не умиравшую в его памяти неизъяснимую красоту русской народной музыки. Вероятно, именно поэтому в его консерваторские работы последнего периода так настойчиво проникают народные напевы. В поисках необходимого ему материала он обращается к сборникам русских песен. В одном из них, у К. П. Вильбоа, он отыскал, наконец, драгоценное зерно, из которого мог вырасти музыкальный образ Катерины. Это была одна из лучших русских девичьих песен «Исходила младенька», положенная пятнадцатью годами позже Мусоргским в основу музыкальной характеристики замечательной русской женщины — Марфы в опере «Хованщина».
«Исходила младенька» решительно выделяется среди народных песен того же типа. В ней, писала исследовательница русского народного творчества Н. Я. Брюсова, «нет характерных для протяжной лирической песни падений, склонений голоса, как бы изображающих покорность неизбежному… Весь мелодический рисунок ясно изображает простое, открытое, живое чувство». Вот эту песню Чайковский и ввел в свою увертюру «Гроза» для обрисовки той, кого сам Островский определял как женщину со страстной натурой и сильным характером. В замысле оперы, надо думать, мелодия этой песни должна была играть выдающуюся роль. Зазвучала в увертюре и тема Кабанихи, лишенная развитой мелодии, рисующая не личность, а скорее безличную губящую силу, злую целенаправленную волю — прообраз будущих «тем судьбы» в симфониях Чайковского. В дошедшей до нас программе увертюры значатся также вечер на берегу Волги, душевная борьба с оттенком какого-то лихорадочного счастья, гроза и смерть Катерины, но все это гораздо менее удалось начинающему композитору; ему не хватило в ту пору ни жизненного опыта, ни необходимого мастерства.