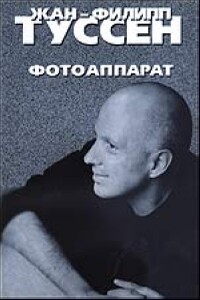Кошачьи язычки | страница 33
Слишком быстро выпалила, мелькнуло у меня. Или это предчувствие? Неужели до нее что-то дошло? Мне сделалось дурно. Я все спланировала совсем не так. Довольно с меня ее милостей, в последний раз терплю. Она явно что-то затевает, но ей больше не удастся разыгрывать передо мной героиню. Может, мне ее испытать? С другой стороны, а хочу ли я знать, что ей известно?
— Если желаете затеять диспут о счастье и несчастье — в добрый час, — бросает Клер и поднимается. — Встречаемся в вестибюле через четверть часа. — И, уходя, оставляет мне свою пачку сигарет. Там как раз осталась последняя.
Нора смотрит ей вслед. Все смотрят ей вслед. «Красивая юбка», — говорит Нора с набитым ртом, но тут же замирает и даже жевать перестает. Официант уже в дверях, распахивает перед Клер дверь, сгибается в поклоне. Лица ее мы не видим, но я точно знаю, какое у него сейчас выражение: любую услугу она всегда принимает с мраморной улыбкой. Ей не требуется улыбаться по-настоящему. В отличие от нас с Норой Ледяная принцесса относится к тем женщинам, перед которыми распахиваются все двери. Во всем мире. Подобная любезность со стороны таксистов, полицейских, кондукторов, продавцов, банковских служащих или официантов не настолько забавна, как может показаться, в том числе с точки зрения Норы. Держу пари, сейчас она скажет: «Мда-а».
— М-да-а, — говорит Нора, подвигает к себе корзинку с булками и берет сразу две.
«Мда…» — это Пиннеберг. «Мда…» — это фирменная тидьеновская примочка, позволяющая выразить сложный комплекс чувств одним звуком и легким щелчком пальцами. Ахим, ставший истинным Тидьеном, теперь, случись ему наткнуться на несокрушимое препятствие, говорит только: «Мда…» При мне, по крайней мере. И Норин Папашка тоже. Гарантирую, что он кормил Ма своим чертовым «мда», когда она просила у него помощи при разводе, а денег, чтобы заплатить гонорар адвокату, сразу наскрести не смогла. Она рассказала мне это в 89-м, в Кельне, когда я вернулась из Барселоны, из своей первой поездки с Норой и Клер, она нянчила Фиону и пожила со мной еще пару дней, а потом отправилась в Берлин, к Хартмуту и Мишель, очень уж ей хотелось взглянуть на дыры в Стене.
Все-таки с ней мне было невероятно хорошо. В тот раз мы никуда не спешили и хоть пообщались по-человечески. Когда Булочка засыпала, а я наконец слезала с телефона (я пыталась устроиться на работу), она садилась, укладывала ноги повыше и начинала рассказывать. Как однажды вернулась от молодого Бургдорфа, парикмахера с Банхофштрассе с лошадиным прикусом, и прямо перед охотничьим домиком, где мы тогда жили, увидела «фольксваген» с открытым багажником, а на сиденье рядом с водителем — Мариту Бетхер, которая уже пару недель обучалась у моего отца игре на органе. Совершенно невзрачная, вспоминала Ма, настоящая Церковная мышь. Ма тогда ничего такого не подумала, но Церковная мышь сидела в нашем «фольксвагене». Ма остановилась и спросила, как успехи в учебе, как и полагалось законной жене пиннебергского органиста при встрече с ученицей мужа. Церковная мышь отвечала вполне пристойно, продолжала Ма, сказала, что счастлива попасть к такому внимательному педагогу. А потом из дома вышел отец, он нес два чемодана, которые положил в «фольксваген», и сказал Ма: «Я не могу по-другому, Альмут». И больше ничего. Сел рядом с Церковной мышью, завел машину и пропал навсегда. Ни разу не побеспокоился о детях, ни разу не прислал ни пфеннига. Слинял с концами. Десять лет мать не могла переступить через свою гордость, чтобы начать его искать. Только в 71-м напала на его след и подала заявление на развод в напрасной надежде выколотить из него хоть немного бабла.