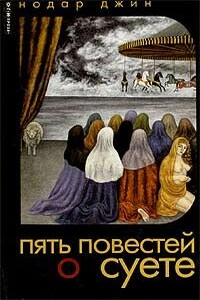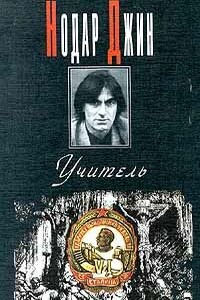Повесть о глупости и суете | страница 71
Не знал я из своего прошлого даже её духов. Но в этом неведомом мне аромате, как и во всём её столь далёком естестве, я сперва услышал, а потом — или до этого или одновременно — увидел, ощутил, узнал что-то безошибочно близкое.
Мгновенное объяснение мгновенно же показалось ложным.
Нет, то было не вожделение. Хотя я и стоял тогда к ней впритык, ближе, чем к кому-нибудь в мире, и хотя мог представить её себе нагою яснее, чем других, — никакая отдельная часть этого тела в моём воображении не возникала. И в то же время я чувствовал его такую простейшую сущностность для моего тела, которая страшит невозможностью раздельного с ним бытия. И которая пробуждает способность к ненасыщению — как не насыщаешься ни верхней, ни нижней половиной самого себя.
Меня захлестнула неведомая дотоле горькая обида на жизнь за то, что эта женщина была далека от меня и отчуждена. Не обида даже, а больнее — глубокая жалоба, которую кроме как смертью можно заглушить только её противоположностью. Любовью. Да, повторил я про себя чуть ли не вслух, — любовью. Она и делает далёкое близким…
И вслед за этим во мне развернулось желание отбить у мира это чуждое мне существо, чтобы оно стало тем, чем может стать — ближним. Отбить его у мира в бесконечном акте любветворения, которое не признаёт окончания праздничной ночи и наступления будничного утра и в котором ублажение плоти является сразу непресыщающим и случайным. И которое потом — когда исчерпываешь всю способность своей плоти к наслаждению и перестаешь ощущать её отдельность — завершается не грустью из-за того, что всё длящееся заканчивается, а примирением с жизнью и тихим праздником присутствия в ней твоего ближнего. Столь необъяснимо ближнего, что становится понятной ещё одна причина нашей печали при уходе из жизни. При расставании с этим человеком.
Потом, не отводя от Субботы невидящих глаз, я вдруг вспомнил, что только недавно читал об этой печали, — и вздрогнул от неожиданности: она была у меня в руках, эта самая страница. В этой книге про любовь во дни чумы.
Я стал лихорадочно листать её сперва с начала, а потом, в нетерпении, с конца. Сбившись с ритма, я перепрыгнул через множество листов на страницу, тоже оказавшуюся загнутой, и быстро, как по ступенькам на лестнице, стал сбегать взглядом вниз по строчкам. И чем ниже, тем беспокойнее стучало в груди: эти слова должны быть здесь, в этих строчках…
Да, вот он падает с лестницы во дворе своего дома, этот доктор, и начинает умирать. Вот выбегает на шум и она, его жена. Вот они, эти слова, — отдавленные ногтём, как и в другой книге о «способности дальнего смешивать с ближним»: