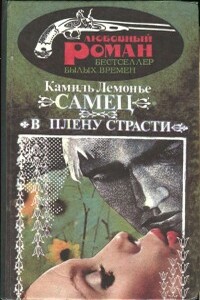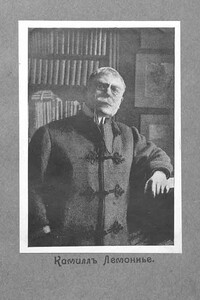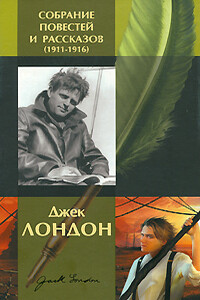Самец | страница 15
У него были покупатели, и он хвастался перед ними своею честностью. Его уважали за его широкий размах в делах. Он сам иногда, для вящего озорства, носил в город свою дичь, чокаясь чаркой во время пути с лесниками, которым он насмешливо предлагал поставлять дичь к столу их хозяев.
– Для облав надо десять-двадцать охотников, – говаривал он, – а я охочусь один-одинешенек! К тому же я знаю по имени каждого зверька. Я просто подзываю их к себе, и они сбегаются ко мне, как к своей матке!
Он издевался над охотниками, над лесниками и жандармами, предлагал им, ради смеха, дроби, если когда-нибудь они подойдут к нему слишком близко, и, под конец, показывал им свои голые руки с мускулами, перекатывавшимися, как ядра.
А между тем, за ним очень следили. Лесничие в один прекрасный день вчетвером задумали его поймать. Он взобрался на дерево, следил за каждым их движением, слышал все их планы и вдруг крикнул им сверху:
– Ищи-свищи!
Эта кличка и утвердилась за ним и стала мало-помалу знаменитой. Ее произносили в охотничьих рассказах, за винными стойками, за вечерним столом на фермах, вместе с остротами над жандармами, если это были беседы крестьян, или руганью против браконьерства, если вели разговоры лесники. И известность Ищи-Свищи все возрастала, благодаря невозможности изловить его, непроницаемости его убежища, во время его отступлений, и целому хвосту легенд, героем которых являлся он.
Деревенские жители любили его, чувствуя, что он с ними заодно в их глухом мятеже, в их затаенном озлоблении против властей. И для Ищи-Свищи всегда была готова теплая солома хлева в дни, когда он приходил за ночлегом на фермы, и всегда к услугам – большие краюхи хлеба, кружки пива и вволю кофе. Наконец, он ведь зарабатывал деньги, и крестьяне с волненьем глядели, как блестели светлые монеты в его руках.
К лесу он сохранил свою прежнюю детскую любовь. Но с той поры, как он узнал веселые пирушки, кутежи удерживали его в кабаках, и он, играя в кегли, бражничал, потешался, заводил пари. У него была задорная натура и размашистая душа валлонца. Его раскатистый мальчишеский смех сделался веселым и звонким, как медь. И этот смех, вылетая из его груди часто и мощно, всегда господствовал над шумом и возгласами собутыльников под сводчатым навесом кегельбана, где катали шары.
Но эта кипучая жизнь уходила в самую глубь его существа каждый раз, когда он бывал в лесу, подстерегая добычу, расставляя силки и тенета, неподвижный, как деревья, и улавливая своим ухом, подобно слуховому рожку, как сатир, признаки великого смутного шума, который носился среди тусклых сумерек.