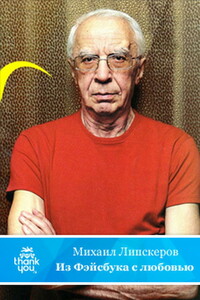Двадцатый век. Изгнанники: Пятикнижие Исааково. Вдали от Толедо. Прощай, Шанхай! | страница 17
Кто-то положил мне руку на плечо, заставив вздрогнуть, а затем присел рядом. Это был мой дядюшка Хаймле.
— Не грусти, — сказал он. — Служба в армии — это как оспа, ангина или коклюш. Ими просто нужно переболеть. Закурим?
Я удивленно посмотрел на Хаймле.
— Ты ведь знаешь, я не курю.
— Не могу себе представить некурящего героя военных действий! Давай!
Я взял протянутую мне сигарету, дядя Хаймле долго щелкал и тряс своей огромной бензиновой зажигалкой, пока она не вспыхнула дымным огнем. Я затянулся, закашлялся, а затем рассмеялся сквозь слезы и дым. Дядюшка тоже засмеялся.
— Ты, в сущности, любишь ее, а? — внезапно спросил он.
— Кого? — смутился я.
— Ту, за которую получил от отца пощечину.
— Две, — уточнил я. — Первая была от нее.
— Ага… — заметил дядя. — Значит, дело совсем не на мази!
— Да я об этом даже не думаю, — с важностью заявил я. — Это все было просто так.
— А не должно быть «просто так»! Ты ведь идешь на войну, будешь брать приступом страны и континенты. В захваченных столицах тебя будут восторженно встречать местные жители, очаровательные полногрудые женщины украсят твое оружие цветами…
— Дядя, будет тебе… — сконфузился я.
— Не перебивай меня, и смотри в глаза, когда я с тобой говорю. Так на чем я остановился?.. Тебя спрашиваю — на чем я остановился?
Я судорожно сглотнул сухой ком в горле.
— На полногрудых женщинах…
— Так… Я не могу отпустить тебя на их ложе, не просветив… Завтра мы с тобой отправляемся в Вену. Это будет мой тебе подарок.
Я засиял.
— В саму Вену?
Но тем же вечером отец, услышав новость, почему-то не засиял.
— Но ведь это страшно дорого!
— Тебе все дорого — отрезал дядя Хаим. — Ведь это я плачу!
Мы сидели за столом, ужинали.
— А откуда у тебя такие деньги, Хаймле? — спросила мама.
— Спрашивать нужно не откуда у тебя деньги, а для чего они тебе нужны! А они мне нужны, чтобы свозить вашего сына в Вену. Пусть увидит нашу столицу, прежде чем на долгие годы засесть в окопах…
Дядюшка явно увлекся, его занесло…
— На долгие годы? — ужаснулась мама. — Но ведь война идет к концу!
— Ну никакого поэтического чувства! В поэзии ведь принято говорить «долгие годы»! Или, к примеру, пишут: «Он постучал в дверь, и прошла целая вечность, прежде чем ему открыли». А сколько на самом деле прошло? Минута? Две?
Дядя Хаймле поднялся из-за стола и сказал мне:
— Завтра ровно в восемь я заеду за тобой на кабриолете. Если поезд придет без опоздания, в девять сорок пять уезжаем.
Он привычным движением сунул пальцы в кармашек для часов и, не найдя их там, стал похлопывать себя по другим карманам, в первое мгновение не осознав, что часов больше нет. Затем, спохватившись, смущенно сказал: