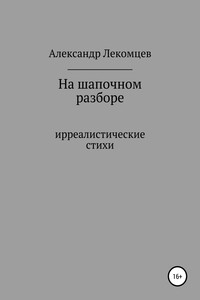Пятая жизнь | страница 57
Стариков Борис жалел. Всеми забытые и оторванные от мира, они шутили, что последним, виденным воочию транспортным средством, в их памяти остались танки с черными крестами, прошедшие здесь во время последней войны. Да и те проследовали мимо и сгинули в болоте, не причинив никому вреда, хотя тогда на хуторе обитало почти сорок человек. Может, кстати, в этом была только доля шутки…
О том, что «наши» победили, жители узнали от двух вернувшихся с фронта солдат. Оба умерли через год, и больше никаких новостей не было. Зато по привычке все хранили в заветных узелках пожелтевшие документы и деньги, теперь представлявшие интерес, разве что, для нумизматов.
Борис конечно мог бы просветить стариков, относительно новой жизни и нового общественного строя, но решил, что этим убьет их, поэтому просто говорил, что там все нормально, и искренне радовался каждому благополучно прожитому ими дню. Именно у них Борис научился ценить и понимать то, что тебя окружает. Какой смысл в борьбе за несбыточные идеалы, если рядом существует мир, который прекрасен и удивителен сам по себе, и самое большое счастье — просто присутствовать в нем!
Еще в армии, перед вступлением в комсомол, Борис сделал открытие — оказывается, между Библией и Манифестом Коммунистической Партии очень много общего; только одна пугает Апокалипсисом и обнадеживает Вторым Пришествием, а другой призывает устроить этот Апокалипсис, именуя его революцией, а после обещает тождественный раю коммунизм.
Сейчас, и коммунизм, и Второе Пришествие утратили актуальность, но вера в светлое будущее продолжает разлагать умы людей. Никто почему-то не в состоянии понять, что самое святое и достойное внимания из имеющегося в распоряжении человечества — это окружающий мир, получивший корявое название «экосреда». И совсем не из-за морозов, а ради подключения к этой атмосфере единения с миром, пронизанным светлой энергетикой душевного покоя, Борис и возвращался домой; именно она давала ему силу для очередной погони за чем-то призрачным, но безоговорочно прекрасным. Погоня эта началась несколько лет назад, когда он почувствовал, что любовь, даруемая ему миром, требует выхода, а не просто блаженного созерцания; требует излияния, и объект должен быть гораздо шире пределов его собственной личности. Ему хотелось выплеснуть эту всеобщую благость, казавшуюся настолько огромной, что она превосходила способность к осмыслению — у нее даже не было имени, ведь все человеческие слова несут в себе конкретный, ограниченный смысл.