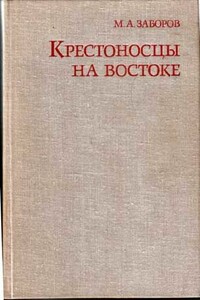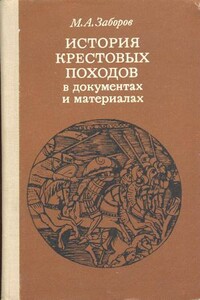Папство и крестовые походы | страница 51
Провансальский крестьянин Петр Варфоломей, сообщил как-то графу Раймунду Тулузскому, что получил от апостола Андрея, явившегося ему во сне, указание о местонахождении «святого копья», которым, по евангельскому мифу, римский воин ударил в бок распятого Христа: копье зарыто в антиохийской церкви святого Петра, и, если крестоносцы сумеют овладеть им, то они — такова небесная воля, высказанная апостолом, — избавятся от всех напастей. Граф Тулузский, рассказывает хронист, приказал произвести в соответствующем месте розыски, и в результате реликвия действительно была обнаружена: слова апостола сбылись!
По рассказу летописцев, это событие сыграло чуть ли не решающую роль в последовавшей затем победе крестоносцев над Кербогой.
Как показал еще в конце прошлого века немецкий исследователь К. Клайн, тщательно проанализировавший текст хроники Раймунда Агильерского, чудо «святого копья» было заранее подготовлено графом Тулузским и его приближенными, в том числе самим автором хроники. Им пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы убедить в чудесном и сверхъестественном характере всего происшедшего тех, кто отказывался поверить фантастическому рассказу провансальского крестьянина, отказывался видеть реальную связь между находкой «святого копья» и апостольским «пророчеством». А сомневавшихся в правдоподобности этой истории оказалось довольно много: слишком явным был искусственный характер всего происшествия. К тому же вскоре выяснилось, что Петр Варфоломей солгал, сказавшись неграмотным, тогда как на самом деле он, хотя и плохо, но знал латынь. Даже папский легат Адемар де Пюи и еще кое-кто из духовенства высказали недоверие к «святому пророчеству», не говоря уже о таких вождях, как Боэмунд Тарентский, который попросту высмеял проделку своего соперника, — Раймунда Тулузского[32].
Такими и подобными методами предводители крестоносцев, церковные и светские, старались укрепить в своей армии волю к продолжению похода, поднять настроение голодного и деморализованного воинства.
В конце концов крестоносцам удалось выйти из затруднений и одержать верх над значительно превосходившей их по численности армией Кербоги. Организатором этой победы вновь выступил Боэмунд, которому князья вынуждены были, несмотря на все свое нежелание, вручить на две недели верховное командование. Но едва ли не решающую роль в успехе крестоносцев сыграли раздоры сельджукских командиров друг с другом, отражавшие вражду Мосула с другими мусульманскими княжествами. Крестоносцы ничего не знали об этих раздорах: еще 27 июня они завязали с Кербогой переговоры о снятии осады с Антиохии (между прочим, одним из уполномоченных, посланных к сельджукам, был Петр Пустынник). Переговоры оказались безрезультатными, и на следующий день Боэмунд, разделив предварительно армию крестоносцев на шесть отрядов, повел их в атаку. Ободренные религиозными пророчествами и находкой «святого копья» (во время атаки его нес, как знамя, Раймунд Агильерский, упоминающий об этом в своей хронике), крестоносцы обрушились на противника как раз в тот момент, когда некоторые сельджукские полководцы покинули Кербогу: в их числе был и дамасский эмир Дукак, как раз в это время уведомленный о том, что в Палестину готовятся вторгнуться египетские войска. Среди сельджуков вспыхнула паника. Вскоре они были обращены в беспорядочное бегство. В этот момент пала и городская цитадель: ее осаждал отряд графа Тулузского, но командир цитадели сдался прибывшему вскоре Боэмунду, с которым, видимо, предварительно была достигнута договоренность о сдаче.