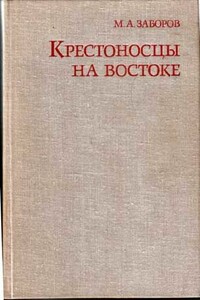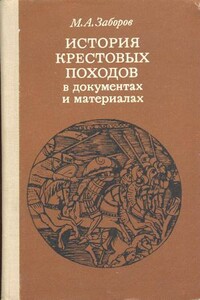Папство и крестовые походы | страница 50
Разумеется, у многих религиозные мотивы с самого начала были чем-то вроде чисто внешнего привеска к главному — мечтам о добыче и захватах земель; но другими — и таких было изрядное количество в рыцарском войске — действительное положение вещей воспринималось не иначе, как окрашенным в большей или меньшей степени в религиозные тона. К тому же наряду с крестоносцами-рыцарями немало было в войске и крестьянской бедноты. А какое значение имели религиозные представления для сознания темного земледельца-крестьянина — читатель уже знает.
Бедствия крестоносного войска в Антиохии, породив упадочнические настроения и среди этой, крестьянской части западного воинства, вызвали, с одной стороны, обострение религиозной фантазии, а с другой — рост неверия в божественность крестового похода: бог явно обрекал на слишком тяжкие мучения тех, кто намерен был положить за него свою жизнь.
Нет ничего удивительного в том, что в этой атмосфере повышенной религиозной экзальтации, в расстроенном воображении многих участников похода, испытывавших к тому же муки голода в осажденной Антиохии, стали происходить всевозможные «таинственные» явления: галлюцинации, необычные сновидения. Конечно, в них отражалось лишь стремление найти выход из реальных трудностей, возникших перед массой крестоносцев, но в их среде все эти факты истолковывались как нечто вещее и пророческое.
Еще более сгущая накаленную атмосферу религиозного возбуждения, некоторые церковники, в свою очередь, стали инспирировать пророческие видения, будто бы являвшиеся тем или иным крестоносцам, и подстраивать чудеса, истолковывая их затем, разумеется, как божье знамение.
Цель этих религиозных инсценировок состояла в том, чтобы в трудных условиях осады, когда многие постепенно разочаровывались в «святости» крестоносного предприятия и утрачивали веру в его победоносный исход, разжечь пламя религиозно-воинственного фанатизма, теснее сплотить массу крестоносцев — и мелких рыцарей, и бедняков-крестьян — вокруг предводителей, скрасить перспективами райской жизни за гробом гнетущие будни и изнурительные тяготы похода и, в конечном счете, побудить крестоносцев к продолжению того грязного дела, которое было начато ими по внушению папства.
Хронисты первого крестового похода повествуют, например, о чуде «святого копья», совершившемся в осажденной Антиохии. Особенно подробно рассказывает эту историю, позволяющую составить представление о тех методах религиозного обмана, к которым обращались иные духовные пастыри крестоносцев, Раймунд Агильерский, капеллан графа Тулузского, в «Истории франков, которые взяли Иерусалим»