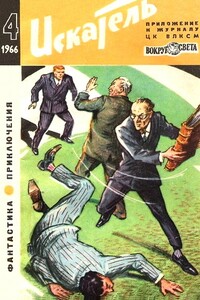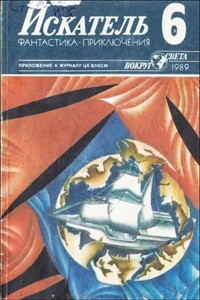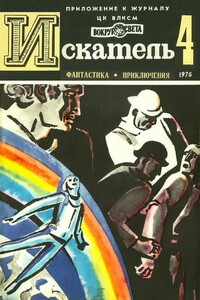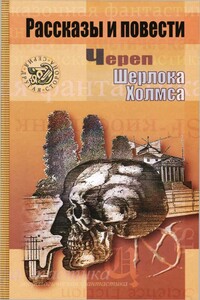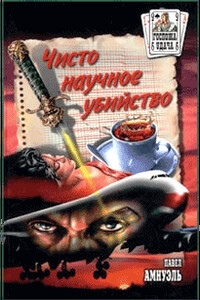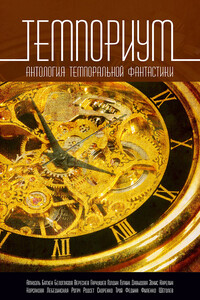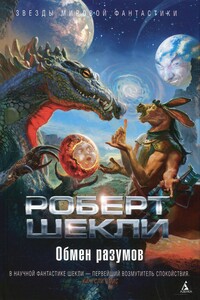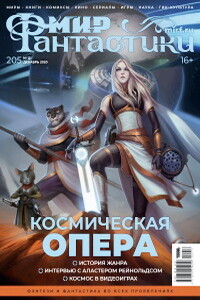Искатель, 2013 № 04 | страница 111
И еще один момент, несомненно, играющий роль в научных исследованиях, хотя и относящийся, казалось бы, к чистой психологии. Власть терминов. Господа, эта власть недооценена до сих пор, хотя, как мне удалось выяснить, о ней писал еще в середине прошлого века известный в те годы советский изобретатель Генрих Альтшуллер. В книге «Алгоритм изобретения» он приводил пример психологической инерции, связанной с неправильно употребленным термином. Изобретателям была задана задача: перебросить через пропасть нитку трубопровода. Проблема в том, что пропасть слишком глубока и широка, переброшенная конструкция рвется, ломается — в реальной ситуации от попытки перебросить трубу через пропасть инженеры отказались и повели нитку в обход, потратив немало денег налогоплательщиков. Инженеры, изучавшие теорию изобретательства у Альтшуллера, тоже не смогли решить задачу, и тогда он сказал, что правильное решение мешает получить психологическая инерция: при слове «трубопровод» все без исключения представляют себе трубу с круглым сечением, от этого отталкиваются, к этому пытаются привязать любую идею, и ничего не получается, потому что труба с круглым сечением имеет малую прочность на разрыв. «Не думайте о трубе, — потребовал Альтшуллер. — Назовите эту штуку иначе. Пусть это будет просто некая „штука“, которая должна висеть над пропастью и не разорваться».
Решение было найдено в течение минуты: сделать сечение «штуки» не круглым, как у трубопровода, а в виде двутавровой балки — всем известного рельса. Рельс обладает огромной прочностью на разрыв, и каждый инженер это знает. Почему же никто — ни в классе, ни в реальной ситуации! — не подумал о рельсе? Психологическая инерция! Труба — это круглая штука. Вы сразу ее представляете, услышав знакомое слово.
Та же ситуация сложилась в квантовой физике, когда Хью Эверетт в середине прошлого века предложил свою многомировую интерпретацию квантовой механики. В обиход физиков вошел термин «параллельные миры», возникающие всякий раз, когда в природе происходит акт квантового взаимодействия. Термин пришел из фантастической литературы, где возник гораздо раньше и был вполне легитимен. Трудно сказать, почему физики не придумали свой, правильный термин для явления квантового ветвления, но «параллельные миры» оказали на развитие квантовой физики отрицательное воздействие. Разумеется, сугубо психологическое. Если миры параллельны, то они никак не могут взаимодействовать друг с другом, они друг с другом не соприкасаются ни в какой точке. Мы в принципе ничего не можем знать о параллельных мирах и даже о том, существуют ли они на самом деле, а не являются исключительно математической абстракцией. Невозможно придумать и провести эксперимент, который доказывал бы, что параллельные миры существуют реально. «Следовательно, — говорили противники многомировой интерпретации квантовой механики, — теория Эверетта не может ничего предсказать и ничего доказать. Вывод — эта так называемая теория противоречит главному принципу науковедения по Проппу: ее невозможно ни подтвердить (принцип фальсифицируемости), ни опровергнуть (принцип верифицируемости). А теория, которую ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно, не является научной. Точка».