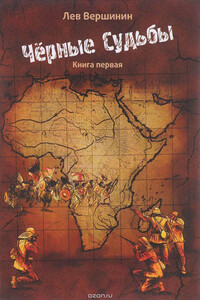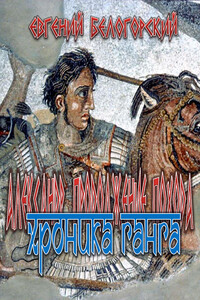Первый год Республики | страница 52
Пал на колени, глядя, словно на икону.
– Дивная!.. простите вольность мою… единый вечер оставлен мне для встречи… не откажите!.. завтра на позиции…
Не думал, каков в ее глазах; она же, посмотрев, оценила сразу всего: серый мундир с корнетской лычкой, разномастные пуговицы, ясные, широко распахнутые глаза; прикинула: не более шестнадцати…
Господи! какой букет! розы темного пурпура… где ж добыл такие в апреле?.. у греков разве… но какова ж цена?!
– Богиня! примите… знаю, ничтожны для вас цветы, но – осчастливьте, молю…
Сам смелостью своей воспламенялся; и вот уж – о, счастие! – ведет Ее к себе («не смейте и думать, Дивная, о худом… честью клянусь, одного лишь жажду: видеть вас, наслаждаться беседою с вами…») и не лжет, не лжет! страшно и подумать о прикосновенье к неземному… увидел Ее третьего дня, мельком, из окна лазаретного – и вспомнить после не смог, лишь одно вставало пред взором внутренним: ясное, будто зорька в имении, столь радостное, что от одного лишь сознанья – ВИДЕЛ! – легче становится жить; а еще – локоны, небрежно выбившиеся из-под капора, светлые-светлые завитки да профиль точеный… и вот – увидел на улице: шла через весеннюю грязь, словно паря над нею, будто и не касаясь земли… до самого «Оттона» проводил; что Ей там? Не посмел ни войти следом, ни после подбежать, когда вышла… никак невозможно, не представлены, да и вел Ее под руку поручик-фат, она же была печальна и дика, словно отвергая сию фривольность самим видом своим…
Кто он Ей? Муж ли, брат, возлюбленный? во сне убил в поединке ненавистного противника, на следующий же день – опрометью к «Оттону», будто на дежурство – и увидел, на сей раз одну, и вновь грустную, словно бы даже в слезах; фат оскорбил Ее! – подумалось с ненавистью, но и с удовлетвореньем; подойти – и она моя! – но не посмел, а послезавтра уж на позиции… нога залечена… – и осмелился, наконец! и вот она рядом со мною, и впереди ночь, и я изъясню ей все чувства свои; откажет ждать? пусть! тогда – в бой, и умру счастливым, ибо говорил с Нею…
Вот уж и крыльцо…
– Присядьте, мадемуазель… извините беспорядок сей кельи… – бормотал что-то совсем уж невпопад, суетливо прибираясь, не отводя глаз от Нее, уже скинувшей накидку, уже сидящей на оттоманке, – присядьте… угодно ль вина немного?
Не увидел, почувствовал улыбку, знак согласья. Откупорил бутылку; сего добра довольно – однополчане изрядно снабдили империалами,[62] дабы закупил в Одессе.
– За вас, Дивная, за вас, светом Авроры восходной дни мои суетные озарившую… – лихорадочно отыскивая слова, никак не мог найти значительных, умных, пристойных случаю; потому безбожно пересказывал речи из книжицы маменькиной о Поле с Вирджинией, опасаясь одного лишь: как бы не поняла, что не свои слова говорит. И ощущал во всем теле мерзейшую дрожь, словно бы каждая клеточка тряслась.