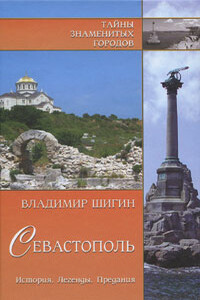Пакт, изменивший ход истории | страница 28
Примерно на рубеже 1936–1937 гг., разуверившись в действенности коминтерновского лозунга народного фронта против фашизма и войны и политики коллективной безопасности (в попытке углубить «межимпериалистические противоречия», противопоставив одни капиталистические государства другим), Сталин возобновляет критику с классовых позиций и «фашистских агрессоров», и «так называемых демократических стран». Тем самым задача раскрытия объективно существовавшего конфликта между демократическими и тоталитарными государствами была заменена пропагандой своего рода внешнеполитической версии известной сталинской формулы «социал-фашизма». Лидеров германской социал-демократии, расчистивших, по мнению Сталина, «своей соглашательской политикой дорогу для фашизма»>{65}, сменили западные «провокаторы войны», расчищавшие путь для агрессии гитлеровской Германии>{66}. По этой логике, разоблачение и борьба против «провокаторов войны» на Западе становились предпосылкой и условием успешной борьбы с мировым фашизмом, олицетворяемым германским нацизмом.
И много лет спустя советские руководители оставались в плену представлений об антисоветском капиталистическом Западе, заданных сталинскими «Кратким курсом истории ВКП(б)». Страны Запада оказывались виноватыми и тогда, когда пошли на «мюнхенский сговор», и тогда, когда «сорвали» тройственные англо-франко-советские переговоры в Москве, которые велись с объявленной целью предотвратить войну; и тогда, когда после ее начала не оказали, вопреки ожиданиям Сталина, «должного», то есть продолжительного, сопротивления Германии; наконец, и тогда, когда затягивали со вторым фронтом — высадкой своих войск на севере Франции. Виноваты были все страны — и «агрессивные», и «неагрессивные». Потребность во внешнем враге была присуща советскому руководству во все времена.
Среди части историков существует мнение, что при Сталине произошел отход от линии Коминтерна на мировую революцию (противоположного мнения придерживаются, вероятно, большинство исследователей вопроса). Сторонники такой точки зрения, думается, не учитывают известное сталинское положение о СССР как «базе и инструменте мировой революции»>{67}. Н.Г. Павленко, один из авторов, заинтересованных в восстановлении правды о Второй мировой войне, писал: «Сталин меньше говорил, но больше делал. Его политика в 30-е, 40-е и 50-е годы свидетельствует, что он верил в идею мировой революции»