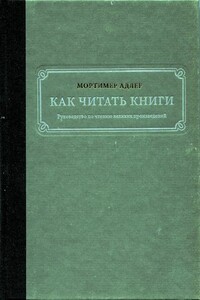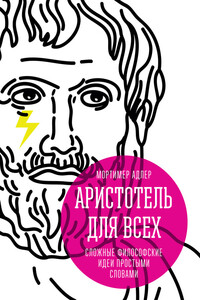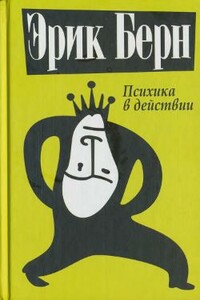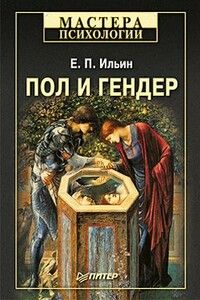Шесть великих идей | страница 49
Принцип Юма был поддержан в XX веке мыслителями, чьи имена ассоциируются с доктриной, которая называется «неверифицируемая этика». Под словом этика здесь подразумевается вся сфера моральных суждений о хорошем и плохом, правильном и неправильном, особенно в форме предписаний, что следует или не следует желать и что следует или не следует делать. Определение неверифицируемая означает, что высказывания на тему «как следует» или «не следует» поступать не могут быть истинными или ложными.
Поскольку эти суждения не могут быть истинными или ложными, они называются «неверифицируемыми». Они не принадлежат сфере знания даже в самом смысле этого термина, который предполагает верифицируемость и доказуемость. Изгнанные из области истины, они переходят в сферу вкуса. Эти суждения являются не более чем выражением личных предрасположенностей или предрассудков, полностью зависящих от чувств, импульсов, прихотей и желаний индивидуума.
Если мы зададимся вопросом, почему суждения, что следует и что не следует желать или делать, не могут являться истинными или ложными, ответ потребует от нас понимания того, из чего состоят истина и ложь, впервые сформулированного в Античности, расширенного в XX веке и принятого в неверифицируемой этике. Только высказывания, утверждающие, что что-то существует или не существует, могут быть истинными или ложными: истинными — если они совпадают с действительным положением вещей, ложными — если не совпадают.
Все такие высказывания могут быть охарактеризованы как описания реальности. Утверждения, которые содержат слова «следует» или «не следует», являются предписаниями или запретами, а не описаниями чего-либо. Если наше понимание истинности или ложности рассматривает их как свойства, присущие лишь описаниям, то мы не можем избежать скептического вывода, что директивные высказывания не могут быть истинными или ложными.
Это размышление приводит нас к следующему заключению: лишь при условии расширения нашего понимания истины возможно избежать подобного скептического вывода. Можем ли мы найти другой вид истины, который подходил бы для предписаний и запретов так же, как более знакомый нам вид истины подходит для описания реальной жизни и высказываний о действительных фактах? Как могут суждения о том, что следует или не следует, быть истинными?
Для ответа на этот вопрос нужно вернуться к античной философии — к идеям Платона и Аристотеля. Аристотель, следуя за Платоном, сформулировал концепцию истины, которая является общепринятой в западной традиции, — именно ее взяли на вооружение сторонники неверифицируемой этики, утверждавшие, что только описательные высказывания могут быть истинными или ложными. Но Аристотель не остановился на этом. Понимая, что такой вид истины неприменим к предписывающим высказываниям или приказам (которые он называл «практическими», влияющими на действия человека), он предложил другой, подходящий для практических суждений.