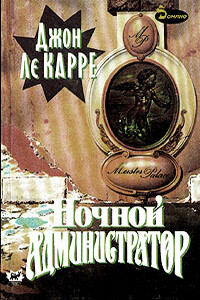Песня для зебры | страница 10
— Коли Господу было угодно посеять в тебе семена, Сальво, так не пора ли теперь нам с тобою приступить к жатве?! — вскричал он, потрясенный.
Что же, жатвой мы и занялись. Обнаруживая качества, более подобающие военачальнику, нежели монаху, дворянин Майкл изучал каталоги учебных заведений, сравнивал цены на обучение, отправлял меня на собеседования, подвергал тщательной проверке моих потенциальных преподавателей обоего пола и стоял у меня над душой, пока я заполнял бумаги для поступления. Его целеустремленность, приправленная обожанием, была столь же непоколебима, как и его вера в Бога. Мне предстояло пройти формальное обучение по каждому из уже известных мне языков, а кроме того, восстановить те, что за годы бродяжнического отрочества оказались на втором плане, подзабылись.
Но как же платить за учебу? Для этого нам был ниспослан ангел в лице Имельды, богатой сестры Майкла, чей дом с колоннами, из песчаника цвета золотистого меда, уютно примостился в одной из падей центральной части графства Сомерсет. Он-то и дал мне прибежище, когда я выбыл из монастырского приюта. Здесь, в Виллоубруке, где лошади, спасенные от изнурительной работы в шахтах, неспешно щипали траву на выгоне, а у каждой собаки было собственное кресло, проживали три великодушных сестры, из которых Имельда была старшей. Имелись у них и часовня для домашних молитв, и колокол для трехкратного чтения “Ангела Господня”[6], и ах-ах[7], и старомодный домашний ледник, и лужайка для игры в крокет, и плакучие липы, что, не выдерживая напора штормовых ветров, падали… А еще Комната дядюшки Генри, поскольку тетушка Имельда была вдовой героя войны по имени Генри, единолично спасшего Англию. В комнате хранилось все — от его первого плюшевого мишки, лежащего на его подушке, до Последнего Письма с Фронта на аналое в позолоченной оправе. Но — ни единой фотографии, увольте. Тетушка Имельда, столь же ехидная и резкая в обращении, сколь нежная в глубине души, прекрасно помнила своего Генри и без всяких фотографий — так она берегла его только для себя одной.
Однако брат Майкл знал и мои слабые места. Он понимал, что вундеркинд — каковым он меня почитал — нуждается не только в поощрении и заботе, но и в обуздании. Ему было известно, что я усерден, но импульсивен: слишком легко готов сойтись с любым, кто проявит ко мне добросердечие; слишком боюсь быть отвергнутым, слишком опасаюсь равнодушия или, хуже того, насмешек; слишком спешу ухватиться за все, что бы мне ни предложили, — из страха, что в следующий раз не предложат. Он не меньше, чем я, ценил мой тонкий слух скворца и цепкую память галки, но настаивал на том, чтобы я тренировал и то и другое, как музыкант или священник, ежедневно шлифующие свое мастерство. Он знал, что каждый язык для меня драгоценен, причем не только языки-тяжеловесы, но и малые, обреченные на вымирание из-за отсутствия письменности; понимал, что сын миссионера обязан преследовать этих заблудших овец и возвращать их обратно в стадо; понимал, что я слышу в их звучании отголоски легенд, исторических событий, побасенок и поэтических обобщений, а также голос собственной воображаемой матери, услаждающей мой слух историями о незримых духах. Он понимал, что молодой человек, чутко улавливающий каждый нюанс и оттенок речи, легче поддается внушению, чужому влиянию и в невинности своей запросто может быть сбит с пути. Сальво, без конца повторял мой учитель, будь осторожен. Кругом полным-полно людей, которых способен любить лишь один Господь.