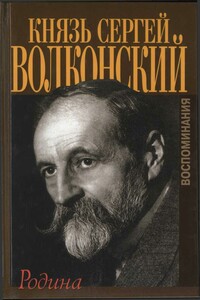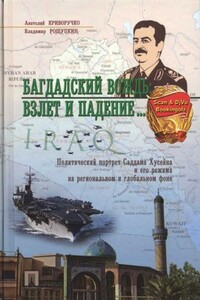Мои воспоминания. Часть 1 | страница 83
В последний раз видел Литвин в Париже; завтракал у нее с пианистом Дюмени и Сен-Сансом. Литвин пела арию Далилы под аккомпанемент автора, а Дюмени сыграл скрипичное адажио Баха, переложенное для фортепиано Сен-Сансом.
Теперь должен сказать о четвертой. Это самое трудное; она так своеобразна, и я ее слышал только один раз. Четвертая — это жена знаменитого тенора Ивана Решке. Она француженка, урожденная m-lle de Mailly, самого высшего французского круга. Она нигде не поет, кроме как у себя. Я был однажды приглашен к ним на вечер. Она очень красива, большого роста, белокурая, волосы красиво приподняты над висками. Она стала перед фортепиано, спиной к аккомпаниатору, лицом к нам. Несколько аккордов, и потом я услышал известный романс Лассена с прелестным в конце каждого куплета припевом: «Wie einst im Mai». Уже первая строчка стихотворения, первая фраза романса раскрыли целый мир, и я чувствовал, что предо мной было явление исключительной художественной редкости. Посмотрите на звуковую сторону слов в этом стихе, посмотрите на согласные; я не считаю такие текучие звуки, как N и R, но без них на двадцать согласных пять D и три Т. Задумывались ли вы когда-нибудь над механикой этих букв, о том, как они производятся, о той звуковой прелести, которая получается от правильного их произнесения и, наконец, о психологической содержательности, которая сообщается словам правильностью произнесения? Д и Т образуются прижатием языка к нёбу, но звук получается не в момент прижатия, а в момент отдергивания; вот почему настоящее, хорошее Т всегда получается с некоторым запаздыванием. Проверьте сами на себе; посмотрите, как у вас зазвучит: «я Так тебя люблю». Вот это я ощутил в пении г-жи Решке.
С первых же слов я почувствовал глубину отделки, на которую она способна, и с первых нот почувствовал глубину чувства, которым она волнуема. Странно, кроме этой первой вещи, не помню, что она пела; помню, что пела по-немецки, по-французски и по-итальянски, но что, не могу сказать. Никогда в жизни не испытывал такого впечатления: я слушал без участия сознания, оттого, конечно, и забыл, что она пела. Это была такая ласка душевная, что можно было все на свете забыть, а не только название романса. Когда она кончала, страшно было шевельнуться, чтобы не нарушить созданную ею атмосферу. Она пела много; на всех языках одинаково прекрасно, и после всего она, без аккомпанемента, пела на бретонском наречии песни бретонских пастухов… Что я могу сказать еще о ней? Я думал, что вообще не буду в состоянии ничего сказать, так неуловимо то, что она во мне пробуждала. Я рад, что слышал ее только один раз; второй раз уже было бы не то, было бы то же самое, но без всего того удивительного, что дает чувство новизны. Все на свете может повториться, первый раз не повторяется, — это уже будет второй. Помню, что когда она совсем кончила, я ушел в другую комнату, потому что неприлично было оставаться на людях… Да, я забыл, что она пела, но никогда не забуду ее, в белом кружевном платье, прислонившуюся к фортепиано и устало, издалека поющую песни бретонских пастухов — бесстрастно с обычной нашей точки зрения личного мерила, но как глубоко и страстно говорила в этих звуках вековая девственность лугов, полей и моря, не знающих прикосновенья городов… Вижу ее в белом кружевном платье, редчайшую более даже, чем редчайшая лиловая орхидея, что увядала на ее груди…