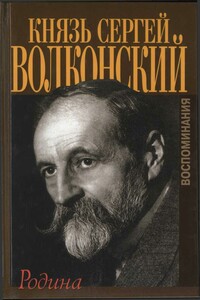Разговоры | страница 47
— Ну а другие линии?
— Все только по четыре поколения. Вот отец, вот декабрист.
— Этот портрет князя-декабриста я знаю, это с Дауского портрета, который в галерее 12-го года в Зимнем дворце.
— Да, он был в 1826 году, по повелению Николая I, удален, а в 1903 году директором Эрмитажа, Иваном Александровичем Всеволожским, найден на чердаке Зимнего дворца и по высочайшему повелению водворен на место.
— Так что портрет «возвращен из ссылки» 47 лет позднее, чем оригинал?
— Оригинал?
— О, простите, я без каламбура.
— Но представьте, что сама жизнь с каламбуром. Он в самом деле был оригинал, как ни странно прилагать это слово к таким людям. Какая-то смесь наивности и педантизма. Он очень любил огородничество, изучил его в ссылке и по возвращении им увлекался. В Малороссии, в деревне у дочери, где он жил последние годы, где и умер и похоронен, у него был свой огород; он не был обнесен ни рвом, ни забором, но ход в него был через ворота, и ключ от ворот он носил в кармане. Когда его сыну, моему отцу, пятнадцатилетнему мальчику, захотелось прочитать «Евгения Онегина», он отметил сбоку карандашом все стихи, которые считал подлежащими цензурному исключению; можете себе представить, как это было удобоисполнимо — при легкости пушкинского стиха перескакивать строчку. Разве не оригиналы мой дед и Поджио, в ссылке проводившие долгие часы в спорах о титуле. Поджио, как «вольтерианец» доказывающий, что титул — ничто, а мой дед, объявлявший, что если он подписывается «Сергей Волконский», то единственно из уважения к воле своего государя, а на самом деле ничто не может его лишить того, с чем он родился.
— Да уж если на то пошло, то в семье вашей оригиналы не переводились. Вот вы говорите о декабристе и о его сестре-фельдмаршальше, а отец их Григорий Семенович — ведь это я читал в книге вашей матери «Род Волконских», — как он в Петербурге каретой цугом на базар выезжал и на обратном пути сзади кареты, по обеим сторонам ливрейных лакеев, висели гуси и поросята…
— Да, это было смешно, но это было для раздачи бедным, и он же заслужил от Суворова, под начальством которого воевал, наименование «неутомимого Волконского». Вот он, в изображении Боровиковского, с Библией под сложенными руками. Очень набожный и страстный любитель старой итальянской музыки — Палестрины, Марчелло, Паэзиелло.
— Да ведь это мы говорим «старая итальянская музыка», а для них это была современная. Паэзиелло! Паэзиелло написал по заказу Екатерины Великой своего «Севильского цирульника» для Эрмитажного театра.