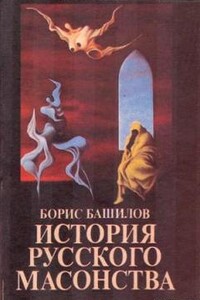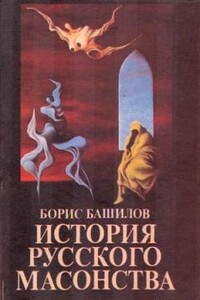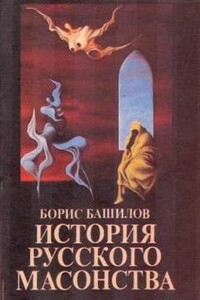Масонство и русская интеллигенция | страница 54
Спрашивается, как же люди, отрицающие возможность создания русской самобытной культуры, то есть интеллигенция, могут составлять русское образованное общество, создавшее русскую культуру? Ведь сколько бы ни твердили русские интеллигенты, что никакой русской самобытной культуры нет, ведь великая самобытная русская культура тем не менее существует. Наличие совершенно своеобразной русской культуры, резко отличающейся от европейской культуры неоспоримый факт, это давным давно признано величайшими русскими и иностранными мыслителями. Духовную непохожесть русского ярко чувствуют все другие народы. Даже русских интеллигентов, как они ни корчат из себя европейцев - европейцы никогда не признают за своих. Это ли не есть неоспоримое признание того, что даже европеизированные русские по своему духовному складу принадлежат к иному, не европейскому миру. Некоторое время назад на страницах "Нашей Страны" развернулась оживленная полемика по вопросу о том "Что такое интеллигенция?" Дискуссия, к сожалению, кончилась ничем. Как Аму-Дарья без следа уходит в пески, так и в результате дискуссии идеологические работники народномонархического движения не пришли к выводу, к которому давно бы уже надлежало прийти сторонникам национального мировоззрения: что интеллигенция - это одно, а русское образованное общество, против которого всегда вело яростную войну интеллигенция - это совсем другое. В вышедшем в 1960 году в Нью Йорке сборнике "Воздушные пути" новый эмигрант Н. Ульянов известный публицист и исторический романист (автор романа "Атосса") в своей статье о русской интеллигенции "Ignorantia est" дал Ордену Русской Интеллигенции столь же беспощадную оценку, какую дал я в своей книге "Незаслуженная слава". Живущие заграницей члены Ордена немедленно набросились на Н. Ульянова с целью всячески дискредитировать его утверждения и его самого лично, и всячески затемнить сущность спора. Подобная тактика членов Ордена вполне понятна. "Такая подмена, - писал Н. Ульянов в статье "Интеллигенция", опубликованной в "Новом Русском Слове" (от 7 февраля. 1960 г.), наблюдается в отношении термина "интеллигенция". Его стараются употреблять не в традиционно русском, а в европейском смысле. Нет нужды объяснять, зачем понадобилось такое растворение революционной элиты во всей массе образованного люда и всех деятелей культуры. Мимикрия явление не одного только животного мира. По той истеричности, с которой публицисты типа М. В. Вишняка кричат о "суде" над интеллигенцией, можно заключить, что суда этого боятся и заранее готовят почву, чтобы предстать. на нем в обществе Пушкина и Лермонтова". "Невозможно спастись, - пишет Н. Ульянов, - в статье "Интеллигенция" ("НРС", от 7 февраля 1960 г.) и от плоской болтовни, вызванной путаницей в употреблении и понимании самого слова "интеллигенция".. В одних случаях это делают по недоразумению, в других - сознательно. Не могу, например, допустить, чтобы М. В. Вишняк заблуждался и не понимал, почему имена Пушкина, Лермонтова, Лобачевского нельзя объединить, в одну группу с именами Желябова, Чернышевского и Ленина. Если у него, тем не менее, такая тенденция есть, то тут - определенный умысел. Ни сам он в прошлом, ни люди дореволюционного поколения, не употребляли слово "интеллигенция" в таком всеобъемлющем духе. Оно имело довольно узкое значение, и лет пятьдесят тому назад, когда веховцы выступили с развенчанием интеллигенции - терминологических споров почти не было. Обе стороны знали, о ком идет речь. Путаница началась после революции, когда пробил час исторического существования той общественной группы, что именовала себя интеллигенцией. С этих пор и в Советском Союзе и в эмиграции слово это стало произноситься, чаще, в общеевропейском понимании". "Совершенно очевидно, что оценка исторической роли интеллигенции возможна только в свете событий, служившего конечной целью ее борьбы. Это сознавали ее враги и друзья. До революции они, несмотря на жаркие споры, воздерживались от пророчеств и окончательных приговоров; чувствовали, что совершение ее судеб еще не наступило. Вдруг да и в самом деле, русскому Прометею удастся принести огонь на землю! Вдруг да "справедливейший" политический строй восторжествует! Эти сомнения и относительность тогдашних суждений выразил Д. С. Мережковский: "Когда свершится "великое дело любви", когда закончится освободительное движение, которое они начали и продолжают, только тогда Россия поймет, что эти люди сделали и чего они стоили". Все, как известно "свершилось" сорок три года назад. По всей логике, России давно бы пора понять чтонибудь в "великом деле любви". Но как это, оказывается, трудно! В СССР всем генералам идейного штаба русской революции поставлены памятники, низшее офицерство занесено в святцы, и горе тому, кто усомнится в непорочности этих подпольных страстотерпцев, террористических угодников, социалистических заступников земли русской! Соловки! Колыма! Расстрел! Оно и понятно: сомнение в их святости равно сомнению в святости революции. Вот миф, стоящий на пути к нашему духовному освобождению. На Западе он давно разоблачен. Там, во всех этих прометеевых огнях и аннибаловых клятвах видят зарницы тоталитарных режимов". Хотя Ульянов свое понимание интеллигенции уточнил лишь в ответе Вишняку, все построение его статьи в "Воздушных путях" не оставляет сомнения в том, что он уже и раньше понимал под интеллигенцией "орден" Анненкова или, согласно Иванову-Разумнику, "штаб русского революционного движения". А сторонник Н. Ульянова в своем письме в редакцию "НРС" З. Аспальф (.№ 17154) пишет: "Критики Н. Ульянова не опровергли, нового не указали, а постарались главным образом по причинам пристрастия, замутить вопрос о существовании "закрытого ордена русской интеллигенции" своеобразной природы, с душком особого НАПРАВЛЕНИЯ". Скажем открыто то, на что З. Аспальф только туманно намекает "своеобразная природа" ордена и его "особое направление" - определяются масонским происхождением Ордена. Сознавали или не сознавали рядовые члены Ордена, но с момента возникновения Ордена они были никем иным, как духовными и политическими лакеями мирового масонства.