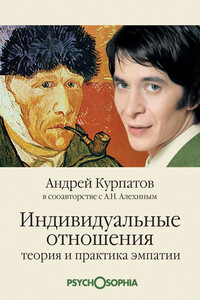Развитие личности. Психология и психотерапия | страница 81
Но здесь встает вопрос: насколько эта субъективность отражает подлинную сущность человека? Если точнее переформулировать этот вопрос, то он будет звучать так: насколько эта субъективность истинна?[105] То, что эту субъективность индивид выработал самостоятельно, не означает, что она есть его собственное выражение. Находясь под водой на глубине 35 метров, человек нуждается в аквалангическом снаряжении (им и придуманном), что вовсе не означает, что это снаряжение есть он сам, но именно такое снаряжение и ощущается социализированным субъектом как его субъективность. Оно сковывает его движения, оно парализует его активность и отнюдь не способствует проявлению его индивидуальности. Все аквалангисты, как известно, на одно «лицо».
Эта субъективность является для человека структурным эквивалентом его самого, не являясь при этом им самим. Нарушение этой субъективности, которую мы, например, можем наблюдать у граждан нашей страны (в связи со спецификой «переходного периода»), может переживаться ими как утрата, потеря самих себя. Логически понятно, что потерять самого себя нельзя, кроме как через физическую смерть. Но психологически эта потеря возможна, поскольку человек отождествляет (в большей или в меньшей степени) себя со своей субъективностью, с содержательностью, которая эту субъективность насыщает и конституирует. Ю.А. Александровский описывает такое состояние как «социально-стрессовое расстройство», рассматривая его в структуре «пограничной психиатрии».[106] С серьезностью этой проблемы не поспоришь, хотя по сути дела – она плод досадной логической ошибки.
Когда Диогена спросили, где он будет жить, если украдут его бочку, тот ответил: «Останется ведь место от бочки!»[107] Но для человека утрата его субъективности (хотя бы лишь содержательной ее части) означает утрату себя как субъекта и переживается именно как такого рода драма. Свобода, таким образом, была бы свободой только в том случае, если бы человек был независим от того, с чем он себя отождествляет (поскольку это бы стало освобождением от иррациональных страхов). Однако же именно эта свобода для личности после всех четырех этапов ее формирования и невозможна. Что же такое этот пресловутый «контроль», как не тождественность человека своим ролям, с одной стороны, и своим осмысляемым целям (я-неотождествленные роли), с другой?
Сформировавшись как личность, человек утрачивает способность ощущать самого себя в своей самостийности, инаковости, он теряет способность опираться на самого себя, он нуждается во внешних атрибутах власти, которые бы продолжали играть с ним в ту игру, без которой он себя не мыслит. В этом смысле «раболепные бунтовщики», описанные в «Великом Инквизиторе» Ф.М. Достоевского,