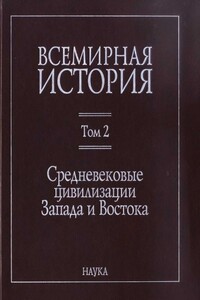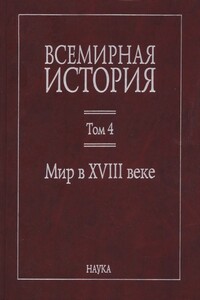Мир в раннее Новое время | страница 18
Поскольку ни с икта, ни с вакфа не собирались налоги, главным источником пополнения казны служила торговля. Султаны взвинчивали пошлины, вводили монополии. Купцов, не желавших торговать по этим тарифам, бросали в тюрьму. Стремясь максимально контролировать доходы египетских купцов, султаны запрещали им покидать страну, передав дальнюю торговлю в руки иностранцев. Была введена монополия на сахар, на султанских плантациях сахарного тростника в Гизе работали чернокожие невольники. Рабы-ремесленники трудились и в султанских мастерских.
Султаны и эмиры, занятые борьбой за власть и дележом прибылей, не могли поддерживать дисциплину в мамлюкском войске. Египет не оснастил армию огнестрельным оружием, не обзавелся сильным флотом. Притязая на роль покровителей ислама, султаны не помогли единоверцам на Пиренеях, не препятствовали утверждению шиитов в Иране. Появление португальцев на Красном море подорвало и экономику, и престиж султана. Османских завоевателей население Египта приветствовало как освободителей.
Если мамлюки гордились тем, что были людьми «без роду и племени», чагатайская военная элита ценила свои генеалогии. Тимур, чья слава не знала себе равных от Атлантики до Тихого океана, не решился узурпировать ханский титул, так как законными ханами могли считаться только чингизиды, по отношению к которым он был лишь зятем. Его потомки стали именоваться тимуридами. Впрочем, в исторических сочинениях XV в. их уже считали настоящими чингизидами. Еще одним «спрямлением» истории было убеждение в единстве тюрок и монголов. Тюрки воспринимались единственными наследниками Чингисхана, но и завоевания тюрок-сельджуков «присваивались» тимуридами. Последний из среднеазиатских тимуридов, ставший основателем династии Великих Моголов, в своем жизнеописании «Бабур-намэ» заявил, что страна, когда-либо находившаяся во власти одного из тюркских племен, по праву принадлежит тюркскому народу. Вот почему Тимур, когда-то сказавший, что «все пространство населенной части мира не стоит того, чтобы иметь двух царей», действовал своеобразно. Разрушив Делийский султанат, он не стал углубляться в богатую Индию. Разгромив Баязида, не добил Византию и не двинулся на Европу. Изгнав мамлюков из Сирии, не пошел в Египет. Видимо, под «населенной частью мира» Тимур полагал лишь мир, подвластный тюркам (причисляя к нему и Китай), здесь он и устранял соперников.
Тимур использовал и идею джихада: упрекал соперников в терпимости к неверным, был беспощаден к несторианам, порой, взяв город штурмом, вырезал иноверцев, сохраняя жизнь мусульманам. Он чтил мусульманский закон выше Ясы Чингисхана, построил великолепные мечети в Самарканде. Его сын Шахрух снаряжал пышный махмаль в Мекку, а внук Улугбек погиб во время хаджа. Под влиянием суфизма находился и праправнук Тимура, правитель Герата и поэт-мистик Хуссейн Байкара, который возвел «Голубую мечеть» Мазари-Шариф на месте новообретенной могилы праведного халифа Али, превратив Хорасан в центр паломничества.