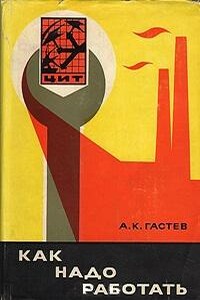Поэзия рабочего удара | страница 51
Перцев входил и ухмылялся.
– Парламент, значит… Дума… Пора и вам: в годах уже по-нонешнему… Депутатов будет тепёрича все больше и больше…
– Да замолчи. Собранье, чай, – прикрикнул на него один из мальчиков.
Гараська ободряюще командовал собранию:
– Выходи, – кто, который там, бери, пиши.
Выходил мальчик Степа.
– Мальчишки, – обратился он к собранию.
– Каки-таки мальчишки? Приучайся, – перебил его Гараська.
– Господа! – поправился Степа.
– Да не господа, – опять одернул его Гараська, – это у начальства так говорят, понимаешь: буржуазия… Товарищи! – произноси.
Степа пыжился, краснел, вспотел от волнения и произнес, отдуваясь:
– Ну-ну-к… товарищи, поэфтому…
– Да стой – вот уйдет сороковкин-то.
– Легче ты, Гараська, – отозвался Перцев, – смотри – мне со стороны виднее – угодишь под пятьдесят семь пунктов[1].
– Ну говори, продолжай: все равно он без понятиев.
Перцева взорвало. Он почувствовал, что должен сказать им что-нибудь дельное и нужное.
– Ребята! – заорал он. – Вот что: как начали, так и кончай. Скажу прямо – бери стружку толще.
– Долой! Вышвыривай его.
– При, при, Степка. Линию ровняй, – не унимался Перцев.
– Замолчи, трепло. Выкатывай. Поддай ему, – уже бунтовалась вся кипятилка.
– Ладно, ладно, я с богом и сам уберусь. Схлопочи, ребята, больше. Бери с запросом. Сбавить потом не поздно будет…
Но Перцева уже выталкивали.
– Да стойте вы, молодая сволота, у меня ведь тоже в этом месте нос, не прищеми, – пятился он в дверях задом.
– Убирай, убирай свою сизую картошку, – весело гоготали из кипятилки.
– Ну, что, отведал? – встретила в мастерской публика Перцева!
– Брысь, проклятые! Адиёты вы.
– Гм… Или скипидарцем поднатерли? – травили его.
– Ничего, они вам покажут: дельце, брат, по лекалу пригоняют.
Перцев подошел к своему рабочему ящику и скинул засаленную синюю блузу.
Публика не унималась и начала его «разыгрывать». Хором запели:
– Ар-р-рапы! Пискуны, стервятники, – орал он. – Увидим, что запоете, свистуны.
Тихо, нехотя, как оплеванный, под общий гул смеха побрел он от тисков и от машин, дошел до умывальной комнаты, хотел было одеться, но не совладал с собой и заснул у порога.
А в это время к кипятилке то и дело подходили рабочие подслушать, что делают малыши. Рассказывали, прибавляли, привирали.
Начало светать.
Белели окна. Завод нудно, тоскливо пел свои вечные песни, невеселые, однотонные, безотрадные. Дремалось. Злость часто пробегала у людей на жизнь, осудившую их работать в мучительной, безотрадной дремоте. Злость переходила в тоску. В эти часы утренней смены как-то особенно желчным казался мир. За беспокойной думой незаметно обрывалась работа, опускалась пила, замирали как будто станки, и глаза работников, поймав ближайшую точку, терзали ее усталым, диким, не то плачущим, не то бичующим взглядом. Все больше одолевала дрема, подкашивались ноги, туловище вздрагивало, и, немного очнувшись, работники скрежетали зубами и вновь начинали работу, лишь бы заглушить терзания, подступавшие к груди, к горлу.