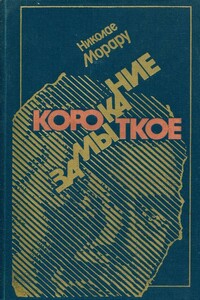Ташкентский роман | страница 65
Юлдуз заснула. Двенадцать двенадцать. Гости, наполнявшие комнату, растворились — оставить любовников одних. Последними исчезли монахи, им очень понравился винегрет.
Артурик набрал в рот колючего шампанского. Запрокинув голову, пополоскал горло. Потом взял гитару, нахмурился. «Настроенная», — нахмурился еще больше, будто его лишили удовольствия долго-долго настраивать. Стал перебирать струны.
Лаги сидела неподвижно, светлая и серьезная, и только опьяневшие руки все складывали из салфетки какой-то кораблик-самолетик. Артурик сощурился на Лаги — ташкентская нимфа, помяни меня в своих молитвах.
«Утром придут мои друзья, я объяснил, как найти», — взял два решительных аккорда, снова перебор.
Лаги кивнула. Конечно, друзья… Медлительный приход; она ждала, когда он начнет песню, но Артурик дергал и дергал струны — всепоглощающее ожидание.
И Артурик запел — о дружбе, о горах, о веточке миндаля, черных лошадях и женщине, входящей в водопад, о раду…
Песня всхлипнула и прервалась. Наскоро задута свеча, вторая погасла сама. Куда-то в темноту, всхлипнув «ля», задвинулась гитара. Звук падающей одежды. Шепот, сухой и горячий, постепенно все более влажный. Потом…
И ему показалось, что понятно все. Она же лежала внизу, запрокинув тяжелую голову. Закрыв серые глаза — чтобы не смотреть в вечность, явленную в низком зимне-заплесневелом потолке. Тихо и хрипло она рассказывала про свою судьбу, находя для этого предмета необыкновенно простые и компактные слова, — ведь он их наверху все равно не поймет и не посмеется. А он понимал, успевал понимать, хотя был поглощен ее хрупкими плечами, маленьким подбородком. Слушал, жадно впитывая ненавистную германскую речь.
Он узнал, что до войны у нее был — друг? любовник? Врач. Он врачевал меня, сказала она. Истина — обнажение, он снимал с меня все новые покровы, о которых я не догадывалась: текстильные, картонные, хитиновые. Он лечил меня своим примером, бесконечно обнажая самого себя… Когда все коконы, шкуры, улиточные домики были сброшены, когда исчезла граница между «внутри» и «снаружи» и мы вот-вот должны были… Тогда его уволокли на фронт, он убивал твоих солдат и быстро оброс новой, страшной ракообразной оболочкой — панцирем — и признался в этом в письме. «Моя рука — взгляни на почерк — стала клешней». Скоро погиб, защищая город Канта, — какая ирония… Ирония ведь тоже панцирь — понимаешь?
И он понимал, ирония — это когда нелюбовь, когда иллюзия любви изгоняется иллюзией смеха, и ничего после. И чем сильнее он вплетался в Луизу, как в лозу северного винограда, тем сильнее понимал, как сам далек от этой истины и как близка она ему. И снова начинал путь — она же стонала, плакала, улыбалась и закрывала глаза.