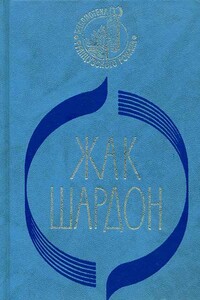Силоам | страница 88
Но это ожидание в нескончаемые вечера зарождалось сначала не в самом Симоне. Оно понемногу, потихоньку возникало в разрозненных предметах вокруг него. Как только был закончен ужин, как только уносили поднос. Именно унесенный поднос и был сигналом. Предметы тогда начинали менять окраску. Стена бледнела. Последний отблеск дня принимался с мнимой правдоподобностью посверкивать на донце стакана, круглой медной ручке. И особенно эта пустота, ах! Огромная пустота комнаты!.. Здесь были предметы, которые в сумерках понемногу заявляли о потребности в странной жизни. Это было зеркало, ужасно голое зеркало, прилипшее к стене, красовавшееся там, словно желая шире раскрыться для отражений, и лишь вызывая этим ужасное ощущение своей ненужности. А кресло! Такое удобное кресло, на которое было так приятно смотреть, но его ручки тоже раскрывали объятия со злой иронией, а слегка наклоненная спинка страстно баюкала невидимку! В самом деле, в этот час у всех вещей были руки, они стремились раскинуться, сжать, схватить вас. Вещи принимались рассказывать о себе, мечтать вслух, неразличимо. Все их ожидания передавались Симону, давили на него, душили. Снаружи, в широком прямоугольнике окна, треугольная вершина Монкабю излучала некое холодное, враждебное свечение; снег, более не ободряемый закатом, гас, становился белым, как вата. Легкие облачка образовывались в долине, терлись о подножие гор, обволакивали их, пока не выныривали вершины, отрезанные от всего, мертвенно-бледные, похожие на привидения…
Затем наступала ночь, и спокойный мир лугов словно тоже ждал, с каждой минутой еще сильнее ждал чего-то более красивого, хорошего, что должно было родиться. Вздрогнув, Симон вдруг замечал подвешенную вверху окна первую звездочку, появившуюся, как знамение в молчаливом просторе и ясности неба.
Тогда из глубины Дома, из глубины коридоров и лестниц, начинали подниматься шаги. Иногда они приближались с густым шумом — приближались, ударялись о стену, как разлетевшаяся морская волна, заставляя дрожать дверь, проходили мимо… Слишком рано: это был не он! Надо было ждать, ждать, тогда как время уходило и соответственно уменьшались шансы его увидеть. Затем раздавался зловещий звонок, и все было кончено. Симон тогда думал о своих прежних бдениях, когда сны слетались, как бабочки, и тут же погибали в круглом луче лампы. Время было твердой материей, в которой не было дыр. Он слышал в соседней столовой оживление конца ужина, которого он поспешил избежать, голос мадемуазель Жюстины, голос г-на Деламбра, объяснявшего его брату дневные операции. Вокруг него были книги; он мог жить среди них, как на острове. Греческие буквы рисовали на белой странице хрупкий пейзаж, орошаемый мелким дождем значков и покрытый узором изящных символов. Было приятно все забыть, от всего отречься, погрузиться в учебу до середины ночи… Воспоминания наплывали; Симон ждал… Он уже не знал, ждет ли он Жерома, или Брюкерса, или Шартье, или кого-то еще. Впрочем, о последних он больше не слышал. Их прощальные рукопожатия были похожи на расставание бригады по окончании работы. Но его-то работа была не окончена, ему вдруг показалось, что его работе еще только предстояло начаться, что его работа не из тех, что вообще заканчиваются: и именно для этой работы он однажды приехал в Обрыв Арменаз по этой извилистой дороге, чьи петли исчезали в тумане… Боже мой, когда же развеется туман?..