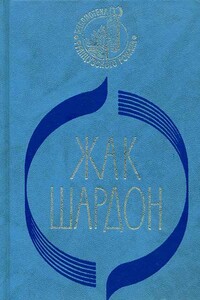Силоам | страница 127
— Шах и мат! — восклицал вдруг Жером, уже поднимаясь, чтобы идти.
— Ах, извините! Еще нет! На этот раз я вам делаю шах…
— Да, правда! — говорил Жером, принужденный снова сесть. — О чем я только думал?
Да, действительно, о ком это он думал? Это была измена! Вскоре Жером даже и не старался скрывать своего нетерпения. Он больше не дожидался окончания партии. С восьми часов он начинал выказывать признаки раздражения. Он доставал часы или поворачивался к двери. Под конец, во что бы то ни стало, он торопил игру, опрокидывал фигуры, цеплялся за малейшее мимолетное поражение, может быть, намеренное, как за предлог, чтобы бросить игру. Симон ни о чем его не спрашивал. Он отпускал его без объяснений. Он знал или думал, что знал, имя этой спешки, этого нетерпения. И Массюб тоже, наверное, его знал — он-то все знал, за всем следил! Поднимаясь к своему корпусу, на этот раз один, затерявшись в густой тени елей, Симон повторял себе это имя, сложенное из степенных слогов и с резким звуком, взметающимся между ними.
Симон прошел по тихому коридору и оказался около двери, той самой двери, через которую, несколько месяцев назад, впервые вошел в Дом… Он открыл ее и оказался на крыльце. Но ему пришлось остановиться. Дождь ожесточенно барабанил по ступенькам, темнота была полная. Ветер налетал короткими неожиданными порывами… Симон прислонился к деревянной стойке, поддерживавшей навес.
Он смотрел на ночь — ту ночь, которой все, казалось, избегали — и не чувствовал в ней никакой враждебности. Из дырявой водосточной трубы выплескивался поток воды, разбиваясь о камень подле него; он не видел, как она течет, так темна была ночь, но шум воды вызывал у него какое-то радостное возбуждение, и он подставлял ноги под брызги, как дети, радующиеся ливню, которые, пересекая улицу, старательно шлепают по ручейку, несмотря на то, что их журят за стремление к этому непонятному удовольствию. Под навесом болтался электрический фонарь; он не был зажжен, но, поскольку ветер раскачивал его во все стороны, выдавал свое присутствие слабым скрипом, резкой нотой аккомпанирующим шуму воды. Симон чувствовал, что холодные брызги промочили ему ноги сквозь чулки. Снизу поднимался сильный запах мокрой земли, насыщенной водой зелени. Молодой человек угадывал перед собой плотные ряды елей, поднимающиеся вдоль темных стен… Он вдруг пожалел, что один. Ему вспомнился разговор о любви, состоявшийся за столом между Массюбом и маленьким нотариусом. Естественно, оба они заблуждались. Любовь — вовсе не то, что они себе представляют. Любовь — ах! это значит вдвоем наслаждаться холодом этих капель на коже, визгливым скрипом маленького фонаря, вместе дышать запахом земли… Любовь — это вместе уйти через эту ночь, идти по мокрой траве, расстаться, говоря: «До завтра…» Но образ Массюба преследовал его. Он вновь видел его таким, каким он был несколькими днями раньше, когда поднимался по тропинке с подавленным видом, с неподъемным грузом темноты на плечах. «Думаете, они быстрее выздоровеют, сбивая колени?..» Он еще слышал этот грубый, срывающийся голос, от которого сгущалась ночь. В сравнении со многими другими, с Лаблашем или Ломбардо, Массюб, конечно, был живым человеком! Он, в общем, со всеми своими перегибами, был предпочтительнее стольких людей, которых Симон уже встречал, — этих маньяков-радиофилов, газетных фанатиков, отупевших от упорного чтения всемирных новостей, репортажей о велогонках, воскресных речей, историй об изнасилованных девочках или самоубийствах через отравление газом… Да, он был живее их всех! Но это был смертоносный живой человек, чьи слова убивали. Не следовало слишком много думать о Массюбе; нельзя одному так глубоко окунаться в ночь: думаешь, что спасаешь тень, а тень тащит тебя за собой.