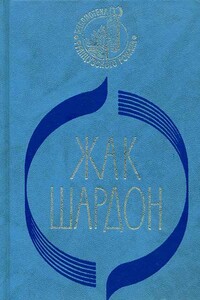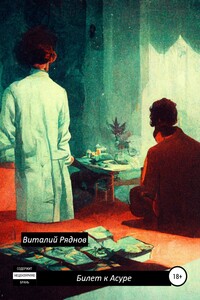Силоам | страница 113
Маленький нотариус, не прекращая, жаловался.
— Этот шум!.. — вздыхал он, промокая влажный от пота лоб. — Какая бессмыслица!..
— Это интересно, — решился возразить Симон. — Сплоченность.
— Вы правы, — поддержал Жером. — Можно подумать, что это одно сознание.
— Вы называете это сознанием? — так и подскочил г-н Лаблаш, не находивший, что Жером придает этому слову тот же смысл, которому его учили в классе философии. — Соберите вместе грузчиков — они произведут вам еще больше шума!
— Правильно, — сказал майор Ломбардо, вытирая вилку хлебным мякишем, — что они еще могут, кроме как кричать?
— Во всем этом, я уверен, — вступил Жером, — есть более тонкие намерения, чем это кажется, и они излагаются этим огрубленным способом, потому что до сих пор не найдено лучшего средства для их выражения. Но эти намерения существуют, клянусь вам, им нужно только появиться на свет; достаточно им найти… ну не знаю, путеводную нить, как они проявятся в более ясном, более развитом сознании…
— Мы такая же толпа, как и все, — изрек Массюб, не прекращая жевать. — Сен-Жельес так и сказал. Для толп есть только одна плоскость: наклонная. Вы не выбьете из этой публики больше искр, чем из той, что собирается в субботу вечером на галерке Бобино.
Видя, что его слушают, он поднял голову и, жестоко глядя в глаза г-ну Лаблашу, продолжал:
— А зачем, собственно?.. Нравится им вопить, так они правы. Если б я мог вопить!.. В конце концов, дураком быть хорошо. Только глупость по-настоящему сидит у нас в нутре! Ум, по сути говоря, — самая наносная вещь!..
Симон был немного выбит из колеи этим днем. Подобные проявления были чужды его темпераменту. Однако ему предстояло испытать их еще неоднократно: нигде он не видел более взрывной среды, чем эта столовая для больных. При этом, как только прекращался шум, в конце стола раздавался голос — медленный, замогильный голос Массюба, предававшегося презрительному комментированию всего, что происходило вокруг него; с небрежным видом, красуясь своим жаргоном, он бросал в лицо своим сотрапезникам ряд догматических и сенсационных опровержений. Ум был не подозревающей о себе глупостью, религия — чудовищным надувательством, и вообще общество возмущало его лицемерием во всех областях; он даже утверждал, что оно теперь могло спастись лишь развратом и животной культурой; только в этом он видел шанс победить анемию среднего француза. Официальная мораль, подло своекорыстная, его отталкивала, и он проповедовал обязанность государства взять на себя заботу о матерях-одиночках. Он выставлял на всеобщее обозрение глупость, состоящую в желании увеличить население, поощряя осуждение этих мужественных девушек, часто стоящих больше многих женщин с честной репутацией, как он говорил. С другой стороны, он терпеть не мог американцев, пропагандирующих искусственное оплодотворение. Ему нравилось повторять одну фразу, автора которой он всегда отказывался назвать: «Любовь, — говорил он, — это искусство быть глупыми вдвоем…» Возмущение, вызванное этими словами в союзе Ломбардо — Лаблаш, невероятно его веселило, и он никогда не забывал добавить, что эта мысль принадлежит одному академику. К тому же он умел быть грубым и воспитывал у себя некую изобретательность, состоявшую в том, чтобы говорить о самых обычных жизненных явлениях словами похоти.