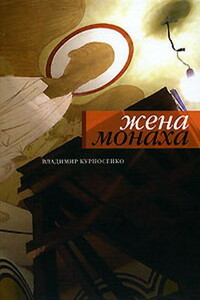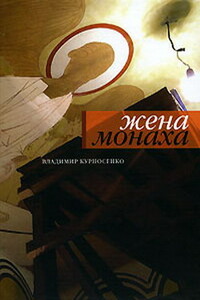Рабочее созвездие | страница 109
Древней строгостью, простотой и силой веет от потемневшего дома, сохранить который — наш долг и святая обязанность. В нем, как в капле, отразилась сноровистость предков.
Я не разделяю восхищения многих хитрой узорчатой резью дерева, когда поздние мастера фигурностью наличников и прорезями ставен пытались выразить наивную мечту простого человека о пышности и богатстве. Точеные полукружия, арочные занавеси, луковки и розетки, что рассыпаны по многим окнам ныне здравствующих городских домов, — это уже подлинный провинциализм, игра в большой купеческий город. Но и здесь есть тонкое чувство меры, которое никогда не изменяет подлинным мастерам, и смотреть на старинные дома нужно пристально, придирчиво…
Итак, деревянный город жил в отдалении больших событий. Но постоянная борьба со стихиями, хозяйственные заботы шли, накладывая отпечаток на каждую деталь дома, двора. Многие имели огород, домашний скот, покос. Хозяину требовались сеновал, сарай, хлев, баня. Все это надо было по сотни раз в день, в дождь, вьюгу, метель посещать. Нужен был и погреб — голбец. И Урал, продолжая традицию Севера, строил такие крытые дворы, что и сейчас стоят среди каменных громадин.
Чаще всего они покрыты плоским камнем из местных каменоломен. Из плитняка сохранились кое-где и заборы. Но особенно интересна чисто уральская деталь — глухие ворота с козырьком, в калитке которых иногда попадается окошечко. Старожилы рассказывают, что раньше, когда через города и села Урала сторожко, хоронясь от людей, шли беглые каторжники, сердобольные хозяева ставили на полочку калитки кружку молока и каравай хлеба на ночь. Прибредет акатуйский бедолага, тишком подзакусит, не навлекая беды на хозяев, обсохнет под крышей ворот и дальше — в родную курскую или воронежскую мглу…
Так дерево служило уральцу. На стыке двух боров ставлен был город — Каштакского и Шершневского. И много строительного теса вывезли из лесов, наладив лесопилки и дегтярни, начиняя самовары лучиной и заготавливая поленницы дров на долгие зимы, мастеря телеги и скрипучие ветряки. Хлеботорговый захолустный город, даже воспрянув после открытия железной дороги в 1893 году, должен был в пояс кланяться лесу, ибо это по деревянным костям пролегли чугунные, а потом стальные рельсы, давшие Челябинску молодость и новую жизнь. Резкий, невиданный взлет, лихорадка роста особняков и заводов — все стояло на многострадальном дереве. Опалубка первых бетонных сводов, леса элеваторов и скотобоен, опоры заморского чуда — телеграфа… Да разве перечислишь, сколь многим мы обязаны мудрости предков, поставивших город возле сосновых раскидистых мачт!