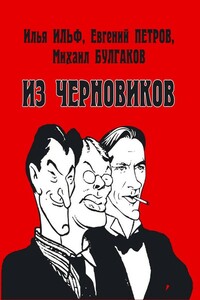История советской фантастики | страница 55
Разумеется, прочитав статью, Кургузов употребил всю свою власть и все свое влияние, чтобы наказать и автора, и журнал. Это ему вполне удалось. Пожалуй, никто из критиков, которые кучковались вокруг «Правды», «Известий», «Литгазеты», «Советской культуры» и других изданий, не оставил без внимания публикацию в «Новом мире». Людмила Скорино, например, писала в «Знамени»: «Нет, товарищ Померанцев, у вас получилась искаженная картина литературы…», Николай Лесючевский в «Литгазете» грозно интересовался, каким образом «проникла подобная статья в печатный орган Союза советских писателей», а Владимир Ермилов, назвавший свою статью в «Правде» «За литературу великой мечты!», на примере публикации В.Померанцева разглагольствовал «об ошибочных тенденциях в литературе и критике» («Автор, очевидно, забыл, что произведения тов. Кургузова в научной фантастике были и остаются лучшими, вдохновляющим примером профессионализма и идейности…»). Главный редактор «Нового мира» был немедленно убран со своего поста с формулировкой «за серьезные уклонения от партийного курса», Померанцев же на протяжении пяти последующих лет не смог опубликовать ни строки в центральных изданиях.
Чем же так испугала статья «Об искренности в литературе»? Конечно же, не тоном и не увесистостью обвинений в адрес своих оппонентов — ничего подобного там не было. Напротив, В.Померанцев писал очень спокойно, рассматривал примеры из текущей фантастической прозы без гнева, а даже с каким-то виноватым недоумением. Точность анализа, впрочем, сопровождала убийственность выводов: «Конечно, скука от книги С.Кургузова „Транзит: Антарктида — Луна“ объясняется и литературной беспомощностью. Но основное ее зло — в явной состроенности. На заводе ракетных кораблей, конечно, может идти борьба за наибольшую производительность труда, за ускорение сборки и так далее. Но борьба эта может стать фактом литературы лишь в случае, если в нее включаются мысли и чувства писателя. В романе нет, вероятно, греха ни против технологии промышленной сборки, ни против организации производства. В нем зато непростительный грех против искусства: он — роман деланный». Скорее всего, страх Кургузова вызвали нс столько критические замечания по поводу его собственного романа — хотя автор «Катапульты» уже и представить себе не мог, что его можно критиковать, — сколько подспудное стремление критика потеснить всю фантастику с господствующих позиций, усомниться в актуальности ее центральной темы. «Жюль Верн оказался пророком, а Бальзак не пророчествовал, — писал в заключение Померанцев. — Но Бальзак нам важнее Жюль Верна. Оправдавшейся догадке фантаста мы можем дивиться — и только…»