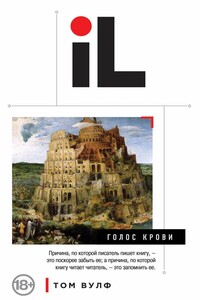, прилипающие к нашему поту. Раскинуться и уснуть на этой огромной постели, мягкой и колкой, пока ее не собрали, не погрузили, не набили ею под завязку сеновалы и сараи. Работают люди, и среди них – мой отец: я так и вижу его близ Мениль-сюр-Бельвитт, в вогезской глубинке, он насаживает охапку на вилы и поднимает ее без видимых усилий как можно выше, сжимая рукоятку вытянутыми руками, чтобы тот, кто стоит на самом верху уже почти полностью нагруженной телеги, мог подхватить ее и уложить. А позже, в уже не столь добрые месяцы, я люблю пробраться порой, как вор, в огромное, иногда двухэтажное, освещенное лишь светом, просочившимся между черепиц, помещение сеновала на ферме. Вновь найти там эту плененную золотистость. Залезть наверх, под самые балки, и упасть в сваленное сено, как в большие теплые руки – только потревоженный толстый кот порскнет прочь. В пыли, оставленной сеном в воздухе сараев, и на их сквозном полу из широких досок я, вдобавок, в свои одиннадцать лет, делаю новые открытия. В красивейшем ущелье Стретюр, горной долине, местами смахивающей на тирольскую, что соединяет Фрез с Жерарме. Мы, кочевой лагерь, останавливаемся на ночлег, где придется, прося пристанища у крестьян. Спать на сене, среди товарищей, укрываясь вместо одеяла этой легкой сухой травой, полной запахов усмиренного простора, выкопать в ней уютную норку и утонуть, не противясь, в ее бездонном чреве. Увы, через несколько часов я стою, задыхаясь, в ночном холоде, под надменным оком Бетельгейзе и Веги из созвездия Лиры. Что с моими легкими? Их нет. Ловлю ртом воздух, но не могу вдохнуть. Я – как выброшенная на берег рыба. Не могу дышать. Сейчас умру. Я и не знаю, что это – первый приступ астмы, которая больше не оставит меня, неудобная спутница жизни, непредсказуемая и мучительная. Но ей же я обязан, несмотря ни на что, после жестоких приступов долгими безмятежными часами, когда лежишь в постели, вымотанный, ослабший, один, вдали от всех, и в эти часы читать и писать – высшее наслаждение, под стать хрупкому чуду возвращения к жизни.
Землю надо кормить, если мы хотим, чтобы она, в свою очередь, кормила нас. Раз в два года, в марте, мой отец покупает грузовик навоза у Робера Домжена, крестьянина из Соммервилле, который привозит его сам и сам выгружает на откос за нашим домом. Черная лавина скользит с мягким шелковистым шорохом и замирает, дымясь. На несколько дней наш дом пропитывается животными запахами мочи, экскрементов и забродившей соломы. Все это произвели утробы стада, всю зиму простоявшего в стойлах. Дни прохладные, ночи еще холоднее, и над теплой горой лениво вьются дымки-фумаролы, как будто там, внутри – огонь, робкий, подспудный, делает свое дело, не показывая пламени. Я распахиваю настежь окна, чтобы мощный дух вошел во все комнаты. Он как будто рассказывает мне о моих предках, они ведь почти все были крестьянами, из Лотарингии и Морвана. Отец орудует заступом. Я ношу ведра, толкаю тачку. Куча тает на глазах. Я устал, но горд собой. Насаженный на вилы навоз ложится в разрытую землю, где большие дождевые черви, бесцеремонно извлеченные из своего темного жилища, разматывают, силясь уползти, кольца розовых тел. Отец закапывает ров. Не видно больше навоза, только желтоватые гнилые соломинки торчат кое-где из разрытой земли толстыми белобрысыми волосками. Холод земли, ее плотная сырость, ее тяжелая чернота поглощают органику, душат ее. Запахи смешиваются, уничтожая друг друга. Дымки иссякают. Мы стоим над утробой, бесшумно переваривающей обильную трапезу. И я, протягивая отцу носовой платок в клеточку, чтобы утереть лоб, и наслаждаясь этой минутой – мы, двое мужчин, вместе сделали дело – не удивлюсь, если услышу сейчас из-под земли отрыжку, гулкую, басовитую, как благодарность нам от подземных богов, сытых и довольных копрофагов.