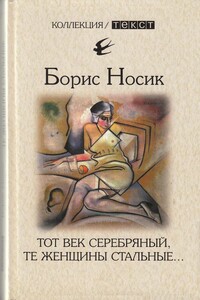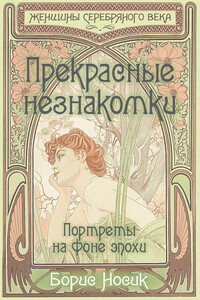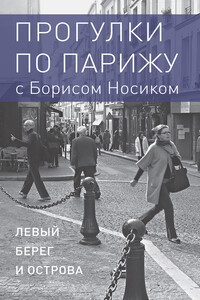Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями | страница 25
В результате приступы тоски и одиночества:
«Одиночество… отдаление тех людей, которые бы могли бы меня оживлять и одобрять в искании всего хорошего, совершенное бессилие души, ненадеянность на самого себя — вот что меня теперь мучит».
Бесчисленные письма и стихи, посвященные друзьям, чувства эти передают с меланхолическим благозвучием:
(Куда ж нам с вами, дорогой читатель, деться при этих строках от воспоминаний о призывах геттингенского (как и Александр Тургенев) выпускника Ленского, от сладостной музыки Чайковского? Куда, куда… весны моей златые дни…)
Друзья озабочены одиночеством Жуковского. Сам он, судя по письмам, то ищет службы и источника дохода, то собирается в заграничное путешествие, то решает, наконец, поглядеть Россию. Однако никуда ему сейчас из Белёва уже не деться. Здесь Маша, здесь любовь, которая наполняет его и радостью и страхом. Поначалу он принимает снисходительность тетеньки к его серьезным и, кажется, успешным педагогическим усилиям за поощрение его далеко идущих мечтаний. Однако тут же начинают тревожить сомнения:
«Катерина Афанасьевна, если не ошибаюсь, дала мне что-то предчувствовать. Но родные?.. Может, они этому будут противиться?.. Неужели для пустых причин и противоречий гордости Катерина Афанасьевна пожертвует моим и даже ее счастием, потому что она, конечно, была бы со мною счастлива».
Он уже почти готов к беде, и при этом, о Боже, как мало он понимает в людях, молодой, беспечный певец. Похоже, что главная его забота пока — воспитать верную, надежную супругу на будущее, когда она подрастет. Похоже, что взрослые, зрелые женщины внушают ему страх. В стихотворении, преданном гласности столетие спустя, влюбленный поэт дает целую программу жизни своей тринадцатилетней в ту пору ученице:
Еще через неделю в подаренном Маше альбоме своих стихов Жуковский приписал четверостишие:
Читая в эти дни Виланда, Жуковский рисует себе идеал молодого человека, «который заключает свое счастье меньше в грубой чувственности, нежели в наслаждениях духовных». Какая уж там чувственность! Этим у него и не пахнет. Зато много мечтательности и рассуждений о том, что эта мечтательность, обузданная «здравою опытною философиею, может быть источником совершеннейшего земного счастия».