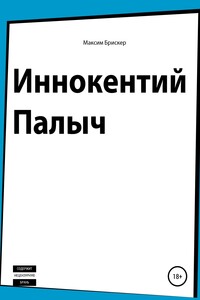Забыть Палермо | страница 79
«Ты будешь несравненным Туриду, дорогой Эррико». Ведь тогда его звали Эррико, с «р», звучащим по-неаполитански, а не Энрико, по-итальянски. На это имя у него будет право позднее, когда придет известность, появятся шляпы аристократического фасона, костюмы, сшитые на заказ у портного, белые рояли и огромные афиши на стенах оперного театра «Метрополитен». В Риети, как и в Неаполе, где он родился, Карузо был еще только маленьким Эррико, так его звала эта орущая, потная детвора из узкого и глухого переулка, скрытого под огромным балдахином выстиранного белья… Эррико с улицы Сан-Джиованелли-альи-Оттокали, Эррико, сын бородача Марселино, рабочего с маслобойни, тот самый паренек, которого отец Бронзетти принял в свой хор. Потому что у него был голос, у нашего Эррико, такой, какого в этом квартале никогда не слыхали. Во время пасхальной службы его пение заставило рыдать всех верующих. В ту ночь умирала Анна… Вы ее не знаете? Она была матерью нашему Карузелло, нашему малышу с золотым голосом, мать нашего Эррико, и он в тот вечер плакал так, что душа разрывалась…
— Слишком печален твой Туриду, дорогой Эррико… Ноты, мой друг… Надо петь только то, что в них сказано. Сократи немного рыданья, а? И вздохи тоже… Оставь все это Сантуцце… Ей надо плакать, а не тебе. Ты Туриду, человек без всякой совести, соблазнивший честную женщину, сбивший ее с прямой дороги, скомпрометировавший ее, обесчестивший, не забывай этого. Ну… На этот раз в темпе. Начали…
Барон де Д. насвистывал реплики Сантуццы или с увлечением исполнял их во весь голос, и его «О царь небесный» вызывало у вас слезы на глазах. Потом, забывая, где он находится, барон мысленно представлял себе театр, репетицию, себя в качестве дирижера, жесты которого вызывают пение пятидесяти скрипок. Лилась мелодия, которую впоследствии играли во всех кабачках мира, во всех кафе, где оркестры безжалостно ощипали ее до последнего волоска. Но это было потом, а в давние времена она имела стиль и душу. Ибо барон любил музыку и дорожил каждым ее звуком. Он «играл» за арфу, мандолину, за цимбалы; в отдельных мостах довольно поверхностно, ведь Масканьи не Бах, но всегда с пониманием, а когда доходил до самых эффектных моментов, то ни один из них не пропадал. Можно было проследить эти все «pizzicato», содержавшиеся в партитуре, звон колоколов, имитировавших пасхальное шествие; барон воспламенялся до того, что восклицал: «Двигайтесь же! Вперед!..», не отрывая при этом рук от клавиатуры и наполняя тревогой молодого певца, зажатого между пианино и туалетным столиком и думавшего про себя — черт возьми, чего же от меня ждут? Но барон де Д. обращался не к нему, а к толпе невидимых статистов: «Двигайтесь же, черт возьми, вперед! Вас, как быков, надо погонять…» И вдруг слышалась аллилуйя, и целое шествие с горящими свечами пересекало комнату, нескончаемые шеренги детского хора, балдахин для святых даров, и монахи, монахи, монахи… Ах, эти прекрасные дни в Риети, полные восхищения от bel canto!