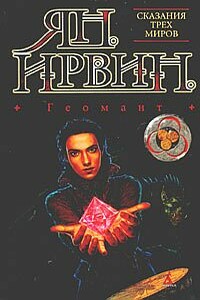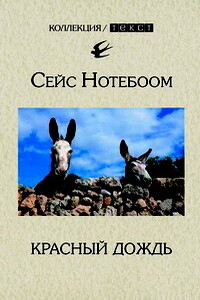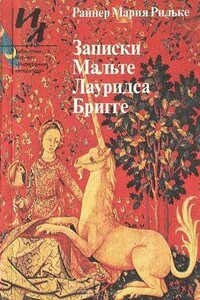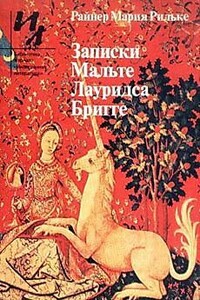Флорентийский дневник | страница 85
Возрождение: постепенное пробуждение и даже омужествление Италии, длившееся так недолго. С этого времени к ней тянутся главным образом одиночки-артисты — художники и музыканты, и даже Реформации удается лишь временно задержать этот поток, уже в XVIII веке хлынувший через Альпы с неудержимым энтузиазмом. Италия ответила на это целым залпом из авантюристов, певцов-кастратов и художников на заработках. Но это была уже другая Италия — приветливо-холодноватая, озабоченная, как всегда, лишь собой, а отчасти и корыстная привратница у гроба, заключавшего в себе прекрасный труп. Паломничество артистов (разумеется, не только немцев) продолжалось вплоть до Первой мировой войны. Целые колонны немецких художников, особенно в эпоху романтизма, штурмовали альпийские перевалы — и, бывало, оседали в Италии целыми колониями. Своих высших точек идейно-художественное (то есть осмысленно-изваянное) выражение немецкой тоски по Италии достигло у Гёте и у Рильке[84], заставшего конец культурного процесса и в некотором смысле сумевшего подвести под ним черту.
Отчего же, в конце концов, эти тоска и любовь, несомые в душе всеми поколениями германцев, приходивших в Италию то захватчиками, то гостями?
Гёте хорошо узнал Италию. Он провел с ней (словно с возлюбленной; читай «Римские элегии») без малого два года (1786–1788), описав свои переживания и приключения в толстой книге «Путешествие в Италию»[85].
Он вполне согласился бы с мыслью о том, что тоска по Италии есть тоска по культуре: «…я считаю новым днем рождения, подлинным перерождением тот день, когда я вступил в Рим. (…) Самый обыкновенный человек становится здесь чем-то, он получает, по крайней мере, необыденные понятия, если они и не становятся частью его существа»[86].
Культурный идеал Гёте представлял себе, скорее всего, как объективированную[87] гармонию природы и духа (правда, так он мыслил, вероятно, в старости, но представим себе, что интуитивно он владел этим знанием и раньше), и вот что из этого вышло в отношении Италии. «…Я постоянно испытывал внутреннюю боль неудовлетворенного желания, устремленного к неведомому, нередко подавляемого, но всегда снова оживающего. А потому велико было мое страдание, когда я, покидая Рим, должен был отказаться от обладания тем, к чему так страстно стремился и чего наконец достиг»[88].
А ведь раньше «в Риме я обрел самого себя, впервые достигнув внутренней гармонии, почувствовал себя счастливым и разумным»