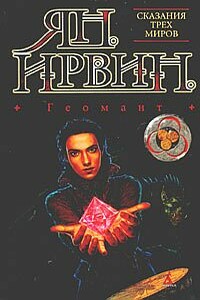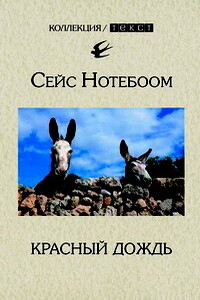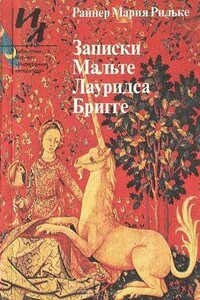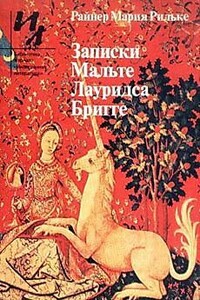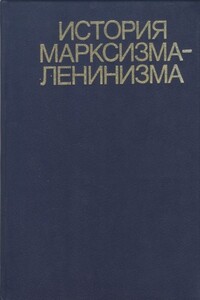Флорентийский дневник | страница 82
Я не верю в то, что существует какая-то другая общность, какая-то еще более тесная соприкосновенность. Но я думаю, что если уж эти одинокие молодые люди так лучатся и вливаются в меня из отчужденно молчащих далей ночи, хотя ничего не делают, а лишь печально стоят у окна, то какую же власть должны иметь над моей жизнью те одинокие, о которых мне известно, — веселые и изнутри полные делом? И мне кажется, что если уж есть на свете такое влияние, то все равно, живы ли одинокие, от которых оно исходит, или от них остались одни имена. Разве не известно, что судьба одинокого отлетает в ином направлении, чем судьбы уловленной временем толпы? Она не откатывается, отяжелев, в былое; тому, что в ней свершилось, нет предела; за ней не следует утомленность; поступок одинокого, даже его улыбка, его сон, мельчайший из его жестов встают, как встает отдохнувший, и идут в будущее, идут без конца.
Как будто и впрямь забыто, что дыханье одиноких окружает нас, что шелест их крови наполняет наши души, словно близкое море, что свершенья их трудов, словно светила и созвездия, восходят над темнейшими нашими ночами.
Если был когда-нибудь человек творящий (а я говорю о творящих, потому что они — одни из самых одиноких), в дни неописуемой собранности создавший из своего творения мир, то может ли быть, что напор и даль этой жизни потеряны для нас, ибо время разбило внешнюю форму его творения и у нас нет его на руках?
Разве какой-то голос не вещает внутри нас с огромной уверенностью, что ветер, поднятый созиданием, унесся далеко за его пределы и его ощутили цветы и звери, дожди и порывы души и женщины в родах?
Кто знает, не были ли вот эта картина, вот эта статуя или вот это давно забытое стихотворение лишь первыми и вторыми из многообразных превращений, которые вызвала сила творца в миг своего просветления?
Кельи разбросанных вещей, быть может, выстроились по закону зарождающихся ритмов, возникла причина существования новых видов, и не исключено, что мы сами стали иными властью какого-нибудь одинокого поэта, жившего сотни лет тому назад, но оставшегося нам неизвестным.
Или кто-нибудь всерьез полагает, будто молитва святого, неописуемо одинокий смертный час умирающего ребенка или одиночное заключение душегуба могли бесследно растаять, словно односложное восклицание или шум закрываемой двери?
Мне кажется, все, что свершается поистине, не боится смерти; мне кажется, стремления давно умерших людей, движение, которым в какое-то особое, важное мгновение раскрывались их ладони, улыбка, с какой они стояли у какого-нибудь далекого окна, — мне кажется, все эти ощущения одиноких живут среди нас в непрестанных превращениях. Они существуют — может быть, несколько отодвинувшись от нас ближе к вещам, но они существуют, как существуют вещи, и, как и вещи, они — часть нашей жизни.