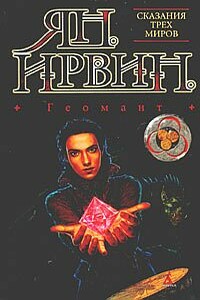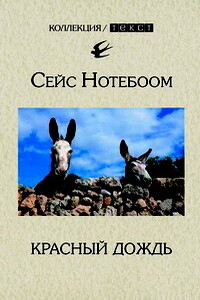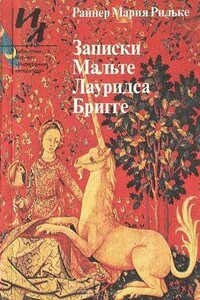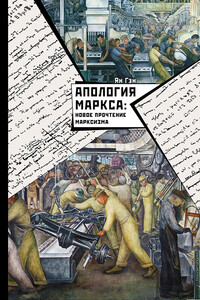Флорентийский дневник | страница 49
Судить о сходстве или несходстве можно, в сущности, только глядя на фотографию. Сходство, выраженное мастером, относится к внешности модели, как экстаз — к изнеможению.
Разве Боттичелли в своих портретах унижается, отрекается от себя? Таким упреком для него предстают его же собственные Мадонна и Венера. Мастер справляется с ним, перемахивая через него к себе самому.
Может быть, тем и хорош Ленбах, что все его головы останутся безымянными, даже если возложить на них вдвое более тяжелые венцы, — ведь даже и при этом все они останутся просто Ленбахами. Что, конечно, в этом смысле относится отнюдь не ко всем. Хотя стоит вспомнить о Тициане, Джорджоне, а то и о некоторых из лучших современных художников.
Если кое-кто из художников считает портрет (на который и так уж налипло много предрассудков) чем-то для себя стеснительным, так это, верно, оттого, что современники с ним солидарны. Во всех других живописных заданиях ему видится нечто вечное. Но из лиц современников на него, в страхе отгородившегося от них, трезво смотрит сегодняшний день. Таков, мне кажется, Бёклин.
Кватрочентисты, должно быть, обходились без таких опасений. И если все-таки время глядело на них из всех этих черт лица, то ведь их-то время заключало в себе больше вечности. Диву даешься, сколько же места для солнца было на тогдашних лицах!
Конечно, тогда любили себя показать; но еще больше любили давать себя портретировать — вместе и рядом с другими. Статуя воспринималась как некое отмежевание. А на картине всегда можно было оставаться в обществе всей своей эпохи, составлявшей единый задний план из золота, так, словно это — личное сокровище каждого. Тогда люди ценили свое время и хотели, чтобы каждый знал: они порождены его возможностями.
А у себя за спиной ставили какую-нибудь архитектуру — воздушную колоннаду, гордую башню, упрямую крепостную стену. Отнюдь не забывали и о садах. Эти люди словно хотели быть погребенными вместе со своими любимыми вещами.
И даже тогда, когда уже кое-что было известно о перспективе, художники беспечно изображали рядом людей, башни и дома — и все это одного роста. «Эх, — говорят добрые люди, — уж эти крошечные башенки!» А надо бы изумленно восклицать: «О, какие огромные люди!»
Пластика в те времена была довольно далека от портрета — прежде всего потому, что предпочитала обнаженную натуру саму по себе, и, может быть, потому, что ставила перед собой главным образом декоративные задания. А кроме того, кое-кому хотелось показать грядущим поколениям, кто, в гуще эпохи и жизни, был на этом фоне и благороден, и доблестен. В долговечном камне, в этом белом, изъятом из времени одиночестве, нужно было выразить только те черты, что достойны вечности. А поскольку природа жизни в том, чтобы стоять на ногах (и тесное время хорошо приспособлено к этому стоянию — а вот с точки зрения вечности оно определенно было бы грубой профанацией), то для таких фигур нашли подходящую позу: торжественно-покойное величие. Легкая непринужденность статуи оставляет у зрителя — благодаря его пространственной соотнесенности с ней — лишь ощущение спокойной расслабленности, ничем не напоминая об усталости. И даже телесную смерть в те времена никогда не выражали через обморочное бессилие; ибо в этой глубокой бездвижности, создающей мощнейшее ощущение вечного, заключена некая вскармливающая и ставящая на ноги сила.