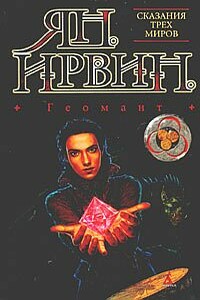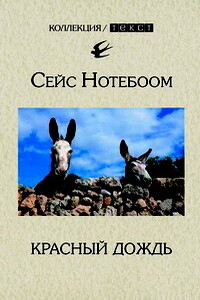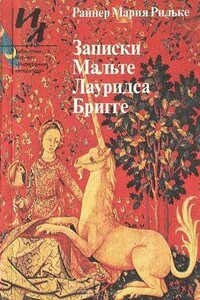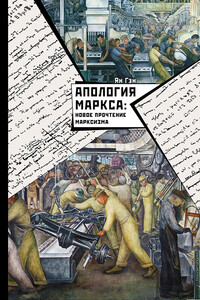Флорентийский дневник | страница 44
Я говорил еще о многом другом, чего уж и не упомню, а потом сказал:
— Хотелось бы мне показать вам что-нибудь здесь, в этой стране, и чтобы это было как подарок, который получаешь от какого-то чудесного народа и, трепеща в изумленном восторге, говоришь: «Боже, какие там вещи!» Вот мне и хочется показать вам что-нибудь похожее.
Когда мы около половины одиннадцатого подошли к воротам, молодая женщина спросила:
— А вам не кажется, что это будет неженственно?
— О, — сказал я, — мужчина может быть богат своим достоянием, женщина же забывает о своем богатстве, если ей не представится случая поделиться им с другим. Чтобы дать что-нибудь, вы должны обладать внутренним пространством. Вам надо пережить что-то вроде материнства. Настанет когда-нибудь день, жаждущий получить что-то от вас, и второй день, и третий — и каждый будет жаждать чего-то своего. И как только вы увидите, что вам по силам выполнить все это, ваше доверие к миру и ваша радость станут безбрежными. Попробуйте сделать так, как я говорю. Уезжайте, не думая о возвращении. И идите, как идут ночью по берегу моря, идите все дальше под бесчисленными молчащими звездами. Попробуйте.
— Может быть, попробую.
И она со смущенной благодарностью подала мне руку.
Неплохое завершение для одного дня, правда? Я долго еще сидел при уютной свече, откинувшись на спинку высокого кресла и думая: «Ты — чудо, Ты, что сделала меня таким просторным». Ведь если итальянские дни одарили меня сокровищами, то это Ты сотворила для них место в моей душе, где теснятся мечты и множество разных забот. Ты сделала меня праздничным.
Лучшее, что я привезу Тебе, дорогая, — это то, что вернусь с такой ясностью.
Я знаю: не все во мне останется песней, как в эти дни; придут и мрак, и смятение. Но глубоко во мне есть маленький садик, обнесенный чистым праздником, куда не пробиться больше никакому страху. И если Ты захочешь, мы с каждым годом будем раздвигать границы этого садика все шире.
А ведь так и есть: каждый в глубинах своей души — как церковь, а стены изнутри украшены праздничными фресками. В раннем детстве, когда вся эта роскошь еще ничем не закрыта, там слишком темно, и образов не разглядеть, а потом, когда своды озаряются все ярче, входят мальчишеские сумасбродства, ненастоящая тоска и алчный стыд — и закрашивают стену за стеной. И многие вживаются в жизнь, и живут дальше, не подозревая, что под трезвенной нищетой скрыто былое великолепие. Но блажен, кто чувствует, находит и тайно раскрывает его. Он дарит им самого себя. И возвращается домой, к себе.