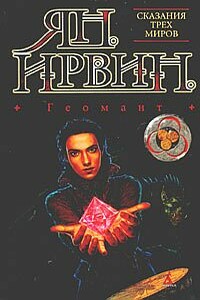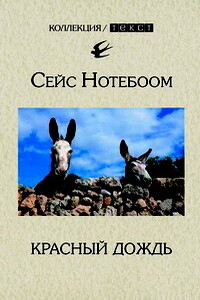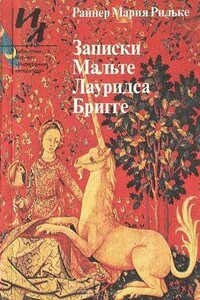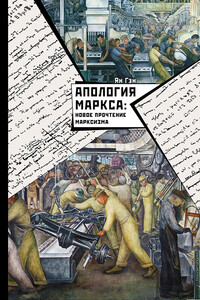, подобна запечатленной красками песне любви посреди леденящих кровь сцен, давящих на душу, будто кошмары. — Есть во всех этих фигурах что-то от бездеятельной, праздной торжественности отдыха после дальней дороги. Все они словно застыли в безмолвной благодарности за это совместное одиночество, словно отяжелев от сладкой истомы, таинственно проступающей в благородных складках их светлых одеяний. Тут еще не угощают, или танцуют, или рассказывают сказки, или поют — самозабвенно, как у более поздних художников: тут просто справляют праздник, радостно сознавая свои дремлющие силы или мечтательную тоску. И что-то от этого простодушного обыкновения еще живо в народе — в этом я мог убедиться своими глазами намедни, в воскресенье. Я видел, как матроны, старики и дети выставляли на солнце из потемок будней всю свою жизнь со всеми ее мелкими радостями и зачахшими надеждами — так, словно собирались нести ее в церковь. На стульях, стульчиках и скамейках все они усаживались перед дверьми, смотря по возрасту и характеру — молчаливые или болтливые, погруженные в раздумье или в созерцание, по всем улочкам заслоняя своей веселостью невыразительные фасады бедных домов. Хорошо в эту пору прокатиться мимо них по грохочущим камням мостовой; кучер крепко щелкает кнутом и со всей возможной важностью пускает лошадку бешеной трусцой. А они поднимают глаза, глядя любопытно или равнодушно, раздраженно или приветливо. И тогда словно каким-то волшебством хижины преображаются, и проезжаешь вплотную мимо полностью обнаженных судеб, с готовностью выставляющих себя на твое обозрение. А под вечер можно застать в лесу девушек — темновласых и белокурых — и видеть, как они обнявшись идут, редко роняя слова, длинными вереницами робко шагая меж прямых стволов пиний; лишь иногда кто-то из них медлительно заводит песню, тихо, словно из глубины сладостного воспоминания, а две или три подруги подхватывают погромче, словно для поддержки. Они проходят несколько шагов — и песня смолкает, погружаясь в их движения, из которых она, казалось, и выплыла раньше, а они бредут все глубже в лес. Это и есть воскресенье.
Здесь и море вносит свой вклад во взращивание скромной праздничности. Всем этим людям, мужчинам и девушкам, и невдомек, до какой степени они — его ученики и дети и как глубоко связаны они душою с его красотой, с его яростью и с его безбрежностью. Подойдет к концу день богатого улова — и с какой надеждой они собираются вечером на молу, что против пристани, растянувшейся вдоль канала, как ждут, пытаясь угадать названия выплывающих из-за окоема лодок с прямыми, узкими парусами, похожими на кипарисы, — и попарно растущих, пока не становятся чем-то вроде аллеи, ведущей в бесконечное. Тогда в напряженных от ожидания лицах проступает светлая радость, и низкое солнце продолжает линии их улыбок далеко, до фронтонов домов Виареджо, так что и они, кажется, сполна участвуют в общей радости. На конце же мола, где начинается причал, стоят, точно в старой оперетте, жены и дочери рыбаков, солдаты и монахи, дети, опекаемые сестрами из Черного ордена, а у передовой сваи какой-нибудь загорелый сорванец в знак приветствия размахивает, словно вымпелами, задубевшими от песка ножками. И с беззвучным достоинством челны с их широкими, сытыми вечерними парусами правят в черные волны канала. Все моряки стоят вокруг мачт. Смеющиеся мальчишки, широкоплечие мужчины, молча привалившиеся к стволам мачт, и старики с морщинистыми лицами пестрыми группами сидят у кормил: вся их старая сила, кажется, собралась в жилистой волосатой кисти, стискивающей штурвал, словно рукоять меча. И вот они правят к суше, будто возвращаясь из дальнего плавания, в котором состарились, а нынче впервые после разлуки видят берег, что покинули, полные юной тьмы. И на всех лежит отсвет задумчивой вечности, а по их груди видно, что она раздалась вширь в отважном страхе перед опасностью.