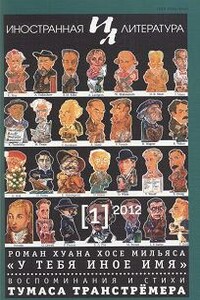Итальянская новелла. XXI век. Начало | страница 61
Достоинство, которому учили меня мои дети во время болезни, было как последнее слово, как голос умирающего животного, покрывавшегося все новыми язвами, открывающими плоть; достоинство, которому они учили меня, было именно в их плоти, которая обнажалась, алела и оставляла на лестнице следы крови. Какое может быть счастье, если оно построено на несчастье других?
Нечестно смотреть вокруг себя и ничего не понимать. Нужно смотреть вокруг и понимать. Поэтому мои глаза стали моими словами. Я не говорю, но смотрю и вижу. И жалостливый или негодующий взгляд: зрачки, блуждающие в белом желе, разрушенном полосками красных сосудов (печень, а-а-ай), — говорит больше, чем все те слова, которые я мог бы сказать или написать.
Я не сплю. Я жду, когда свет, а потом ночь затопит мой мозг и усыпит меня. Мои дети, которые еще живы, копошатся в комнате.
Когда я не сплю, когда свет не проникает в мозг, я вспоминаю, что когда-то был влюблен. И меня удивляет, что я не помню лица девушки, в которую был влюблен. Кстати, а был ли я любим? Не помню, просто не помню.
Я не помню, я просто прячусь внутри этой неосознанной словесной фальши. Я помню все, но я не хочу ничего помнить. Мои дети пачкали кровью чехол на диване, оставляли чешуйки коросты на паркете.
Я просыпался, и мой мальчик Черныш лизал мою правую щеку своим шершавым язычком. Мой любимый Черныш. Другие дети вились вокруг меня, пока я, пошатываясь, вставал с кровати. Сначала кашка для маленьких, потом кофе для меня. Затем я открывал дверь, и мы выходили. Их десять и я.
Я говорю «выходили», чтобы подчеркнуть: я не один. Мы поднимались на холм: на земляную дамбу, покрытую мертвыми окаменелостями. Кроме нас здесь никогда никого не было. Я шел за моими резвыми детками, которые шныряли туда-сюда, оставляя кровь на траве, и время от времени останавливались почесаться и сбросить на землю куски затвердевшей мертвой плоти.
Я поднимался с одышкой, а они, несмотря на открытые раны, бегали, гонялись друг за другом. Я никогда не переставал удивляться их жизненной силе. Они были такие живые и при этом умирали.
Когда мы оказывались наверху, они продолжали играть, а я смотрел на мою деревню, которая с высоты казалась чудесной (с высоты, только с высоты, потому что если спустишься, если пройдешься по ее улицам, то услышишь голоса, сбивающие с толку, слова на ужасном местном диалекте). Мои дети играли, и этого мне было достаточно.
Они вскакивали на низкую каменную ограду вокруг всегда закрытой церквушки. Они учили меня, как надо умирать — без криков, играя.