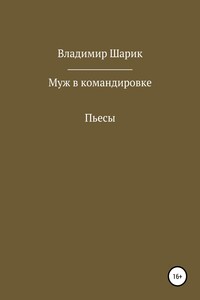Вечные мы | страница 46
— ...О-о... Маш, а у тебя ж есть такое?
— ...Платье-то?... Ну... найдём, только... тебе красное пойдёт ли, не знаю... и подшить надо будет...
— Ой, Маш...
Шум вставания. Кошачий спрыг.
— Прямо сейчас... давай? Успеем до вечера?
Кошачьи шаги удаляются.
15. ВАЛЬС (МАША)
16. И СМЕХ, И ТО ЧТО НЕЛЬЗЯ
— А знаете, что самое-то нельзяшное? Я сам недавно понял... (Кать, не убегай пока, а?) Слушайте: писать про нас нельзя. Слова это смерть! Да, да, мы все чего-то пишем, и про себя, о ком же нам петь ещё... это чудесно, отправление здорового организма, помогает жить. Но это должно оставаться фрагментарным. Нельзя «всю историю». Нельзя «всю правду». Общий нарратив — табу. Нельзя делать роман...
— Да почему?...
— ...Максимум — газетный очерк... ну или уж тогда монографию. А почему — да потому что мы тут, друзья мои, зажились. Слишком у нас хорошо для романа, понимаете? Скучно. Расслабились, раздобрели... если честно писать всё как есть, будет не текст, а мастурбация. И будет соблазн придумать развязку, трагедию... а это уж совсем нельзя, и не из суеверия, конечно. Просто туфта выйдет, да? Искуственность. Прогрессия Набокова получится — который уж на что умён был, в каждом отдельном тексте концы прятал идеально, но в метатексте за сорок лет всё равно нарисовалось, как на рентгене...
— Что за...
— Да нимфетки его. Которых уж так хотелось всю жизнь. Но был не дурак, понимал: нельзя дать себе волю и просто написать как хочется. Это будет провал, будет анти-литература. В литературе обязательна трагедия, облом, моральный урок. «И понял вдруг, что я в аду.» И он раз за разом подступался к этой теме и писал — с обязательным адом. Но в чём штука-то: на продольном срезе всё равно видно, как всё сползает, как ад этот с каждым разом всё позднее настигает. Смотрите: рассказ «Сказка», 20-е годы — герою всё можно, надо только выбрать, любая будет его; он выбирает нимфетку — и сразу облом, выбрал не так, даже разглядеть не успел. Следующая нимфетка в «Приглашении на казнь», 1935 год: уже горяче́е, уже разглядел, даже помечтал, даже обнялся невинно, но облом тем более. Повесть «Волшебник» — «черновик Лолиты», конец 30-х: тут уже почти достиг, уже лежит с ней рядом, спящей, уже готов и более чем готов — но она проснулась... облом и смерть. Дальше «Лолита», 50-е: тут уж совсем всё, добился, поимел, насладился. Счастлив ли герой — вопрос, но «он с ней был». Ад и трагедия настигают, но уже в самом конце. И, как финал, «Ада», 60-е: это уже практически порнография, облома нет, точнее он временный — после бурной и наконец-то полностью взаимной любви с двенадцатилетней и потом пятнадцатилетней они просто на время расстаются. Максимум трагедии — изящное самоубийство младшей сестры героини, которая, вишь ты, тоже с героем хотела, а он её отверг. А потом — счастливое воссоединение с героиней и хэппи-энд до старых лет. Поглядывая на постаревшую жену... опасливо так...