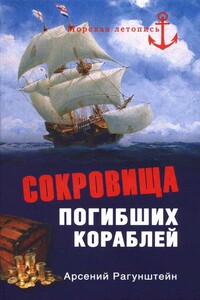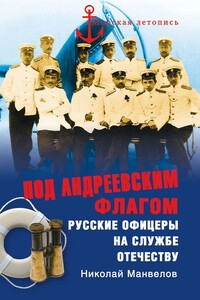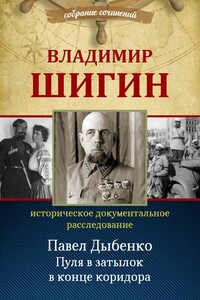Дело «Памяти Азова» | страница 118
Казалось бы, на этом можно было в биографии этого международного авантюриста поставить точку, но не тут–то было! Спустя много лет о Фундаминском вспомнили его парижские единомышленники–масоны, и в 2004 году он был торжественно канонизирован константинопольским патриархом как. святой мученик. Наверное, это единственный святой из всех революционеров, эсеров и боевиков, комиссаров и депутатов Госдум всех созывов! В этом он, кажется, переплюнул всех! Раньше фотографии Фундаминского висели в полицейских участках, как опасного террориста, находящегося в розыске, теперь же его светлый лик взирает на нас с икон. Что и говорить, чудны дела твои, Господи!
Пожалуй, лучше всех сложилась судьба одного из зачинщиков мятежа в Свеаборге штабс–капитана Сергея Циона, который вовремя сбежал из Свеаборга вначале в Швецию, а оттуда в Англию. В Лондоне он устроился журналистом в одну из газет, как специалист по России, и принялся активно разоблачать «кровавый царизм». В 1917 году, сразу после февральской революции, эсер Цион неожиданно объявился в Петрограде в ближайшем окружении Керенского. Но после октября 1917 года снова бежал, так как боялся мести большевиков за свои былые прегрешения. Но на этот раз Цион бежал уже не в Англию, где за ним тоже водились кое–какие грешки, а в Швецию, где и проживал до самой смерти в 1947 году.
Отметим одну любопытную деталь. Цион был весьма дружен с уже известным нам святым эсером Фундаминским, который в свою очередь дружил с Иваном Буниным. Состоял в переписке с Буниным и сам Цион. Может, именно поэтому Цион и возглавил шведское общество друзей Бунина. Честно говоря, я не могу сказать, что за отношения связывали Ивана Бунина с двумя отъявленными негодяями эсерами.
О Кронштадтском восстании 1906 году по свежим следам были сложены песни «Мы сами копали могилу свою», «Царские гости» («Трупы блуждают в морской ширине») — обе на стихи В. Богораза-Тана, — и «Море в ярости стонало» на стихи некоего Г. Ривкина. Глубоко сомневаюсь, чтобы очень уж близки были флотские дела и Богоразу, и Ривкину. Еврейские поэты просто выполнили социальный заказ. В течение последующих ста лет больше никаких песен о мятежниках с «Памяти Азова» уже никто не сочинял. Если потом о «Памяти Азова» иногда и вспоминали, то в основном, смакуя обстоятельства казни участников мятежа и «зверства» царских властей.
Как всегда, вокруг истории мятежа на «Памяти Азова», и в особенности вокруг казни его зачинщиков, родилось немало легенд, причем порой весьма экзотических.