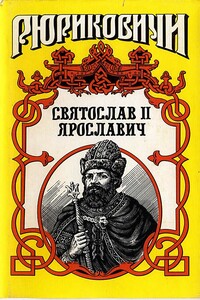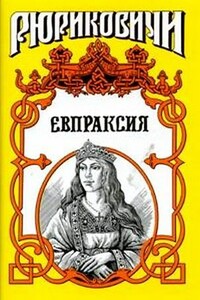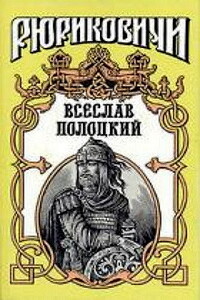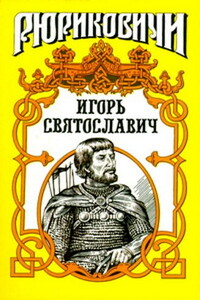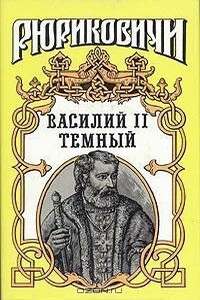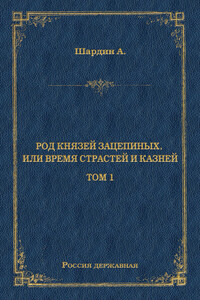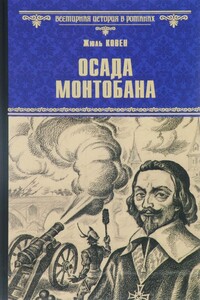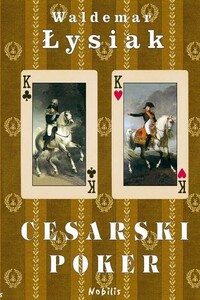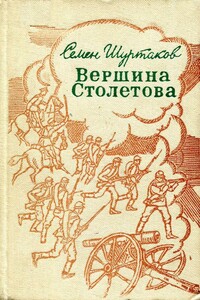Василий I. Книга вторая | страница 90
Василий, однако, не выказал своей досады и слукавил перед Игнатием, ответив:
— Мне ведомо это. Серебряная копейка Юрика будет пока лишь в его уделе обращаться, пока мы не напечатаем денег в довольном обилии. А для этого надобен нам металл многоценный…
Игнатий понял все. Он, собственно, заранее знал, зачем зовет его великий князь, и даже обговорил уже свои намерения с другими русскими купцами, а сейчас поделился ими:
— Мы сдаем в казну свое серебро, а ты нам взамен перепечатаешь «кожаные деньги». — И он показал связку старых беличьих шкурок, на которых не было шерсти и которые решительно ни на что не годились. — Каждая скора должна иметь беличью головку и не меньше двух лапок, тогда она сойдет за «деньгу». Восемнадцать таких белок идут за алтын[41], если ты, великий князь, подвесишь сбоку на шкурке кусочек свинца со своей печатью. Конечно, в Риме или Париже даже за целую телегу таких «денег» не отпустят хотя бы и один пирожок с аминем или одну стеклянную бусинку, но в наших северных землях на них можно все покупать, за них можно все продавать. Мы отвезем зырянам хлеба, ремесленных поделок и этих «денег», а у них в обмен заберем накопившуюся мягкую рухлядь: давно там уж не было купцов.
— А пушнину повезете в Рим да Париж?
— Ну да, — весело улыбнулся Игнатий, — и вернем себе все серебро, которое сейчас тебе уступаем.
— А Стефан Пермский не оскорбится за своих прихожан? — вставил слово Киприан. — Они вам белок, а вы им гнилые шкурки…
— Нет, святитель, не просто это шкурки, но с царской печатью. А торгуют они только между собой — мясом, рыбой, хлебом, квасом, медом, — им и не надобно серебро.
— Однако Стефан в последний свой приезд в Москву попросил у меня несколько монеток, значит, надо им? допытывался митрополит.
— Да, да, — согласился Игнатий, — надо. Они монетами закрывают глаза убитому медведю, чтобы тот «не видел», как они будут есть его мясо, и не причинил бы им потом за это никоего вреда… Они-ведь, как дети, пермяки-комики-то… Я был там. — Игнатий, как все купцы, был словоохотлив, любил рассказывать о землях, в которых побывал, о людях и обычаях, с которыми познакомился.
Василий слушал его, а сам радовался неожиданно удачному обороту дела: подмога купцов может быть очень существенной.
А впереди великого князя ждали между тем и другие славные неожиданности. Предстояло ему воочию убедиться, что привычка жить заодин, всем в единстве, как один человек, составляет главную идею народа, объединенного словом: Москва. Привычка не искать опоры на стороне, а надеяться на себя, на собственные силы и возможности и выработала на Руси ту особую народную твердь, при которой жертвенность и единомыслие столь естественно проявляют себя сразу же, как того потребуют обстоятельства: в дни стихийных бедствий ли, в уплате ли проклятого ордынского выхода, когда надо лишать себя и собственных детей куска хлеба, чтобы наскрести полтину с дыма, в случае ли необходимости собраться всем от четырнадцатилетних отроков до шестидесятилетних старцев — всем, кто только способен держать в руках копье, и в едином душевном порыве выступить против Мамаева сброда… Нет, неспроста Дмитрий Иванович в грамотах своих духовных да договорных многозначные обмолвки допускал: «А если нас Бог избавит, освободит от Орды…», «А если отдалится от нас Орда», «А если переменит Бог Орду» — великий князь выражал чаяние не свое личное, но всенародное, он крепко стоял на своей русской земле и крепко верил в нее. Вера в народную твердь одномыслия и готовности быть всегда заодин впервые остро ощутилась Василием именно сейчас, когда он при виде несчастной Москвы начал было предаваться унынию и отчаянию, и часто повторяемый Киприаном и отвлеченно звучавший псалом «Основаяй землю на тверди ея» стал сейчас наполняться смыслом вполне определенным.